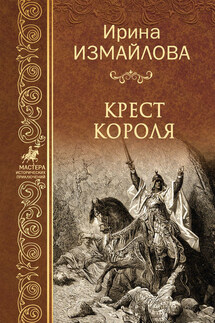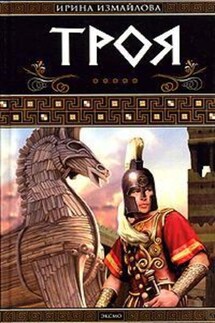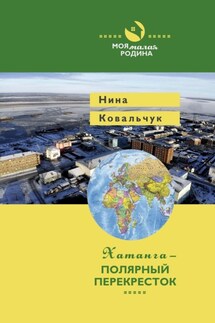1612. «Вставайте, люди Русские!» - страница 27
– Вот ведь, почитай, с десяток обозов к ним тут давеча прикатили – снеди, вина, может, не на всех этих вояк с достатком, но все же не наши тощие харчи! Так чего ж они на чужое-то добро губу раскатывают? Их сюда звали, чтоб порядок был, чтоб, значит, смуту кончить, а с ними и смуты еще более, да и покоя не видать – страх один!
Так рассуждал, вздыхая, немолодой хозяин постоялого двора, аккуратно надрезая пухлый каравай и укладывая краюшку на деревянный поднос. Хлеб, на вид аппетитный, был на самом деле отрубной, да еще с солидным добавлением сушеной лебеды. Трактирщик был рад и этому: в последние месяцы Москва, пережившая уже не одно нашествие и осаду, оскудела мукой, да и другими съестными припасами. Их стало не хватать даже польскому гарнизону Кремля и Китай-города, хотя из Твери, где разместилась основная часть армии, часто приходили обозы, составленные из того, что еще удавалось насобирать, а вернее – награбить по многочисленным русским селам. Но более половины сел были уже дочиста разорены, а многие за сопротивление грабежу сожжены, да и обозы доходили не все: всё чаще и чаще их громили на подъездных дорогах лихие люди.
В последнее время хлеб, пускай и отрубной, замешанный с предусмотрительно запасенной лебедой, был скорее привилегией окраин – оборотистые их жители тоже ездили по деревням. Само собою, они их не грабили, но выменивали на всякие городские изделия отруби, жмых, репу и прочую снедь, которую до сих пор не догадывались тащить поляки.
Это побудило гарнизонных служак устраивать все новые поборы по окраинам – прежде они охотились только за вином, теперь не брезговали набивать мешки и репой с отрубями, вновь оставляя местных ни с чем и вызывая тем все большую злобу, если только она могла стать еще больше… Правда, все помнили с какой сатанинской жестокостью завоеватели расправились с ополченцами, пытавшимися год назад выбить их из Москвы[21]. Особенно тогда зверствовали шведские наемники, вернувшиеся со Сретенки, где им особенно упорно сопротивлялись, сплошь залитыми кровью, будто настоящие мясники… Это вызывало страх, но не умаляло ненависти.
– Говорил, мол, пришли с миром! – продолжал бубнить себе под нос хозяин, укладывая небольшую краюху рядом с пузатой глиняной кружкой, в которую он перед тем нацедил вина из небольшого бочонка. – Ну, и где их мир? Чем они лучше того же поганого Гришки Отрепьева или второго ворюги, что раскатал губу на русское царство?
Слушать его сетования было особенно некому: в просторной зале, кроме него, находились только двое молоденьких дьячков, вот уже час тянувших это же вино, каждый из своей кружки, и негромко ведших какую-то свою беседу, да еще тот, для кого он готовил заказанное угощение и кого не без основания готов был считать своим постояльцем, хотя бы на нынешнюю ночь.
Во всяком случае, вряд ли этот заявившийся уже под вечер путник рассчитывает обрести иной ночлег в негостеприимной ныне Москве.
С виду гость постоялого двора походил на служилого человека, по какой-то причине потерявшего свою службу. Ему казалось лет двадцать пять, он был повыше среднего роста, и даже бесформенный овчинный тулуп, надетый поверх короткого, чуть за колено, потрепанного кафтана, не мог скрыть его ладной фигуры, в которой угадывалась сила и природная стать. Когда он стащил и кинул на скамью вылезшую заячью шапку, оказалось, что волосы у него светлые, чуть вьющиеся, подстриженные, опять же, как у служилых людей, кружком. Бороду он стриг так коротко, что она не скрывала формы тяжелого, почти резкого подбородка, выдающего злость и волю, равно как и узкие, твердо сжатые губы, и вертикальная складка меж темных, не в цвет волос, бровей. Однако глаза путника были словно с другого лица: светло-серые, как низко нависшее над зимней Москвой небо, очень спокойные, почти холодные, они казались старше и смотрели мудро и равнодушно.