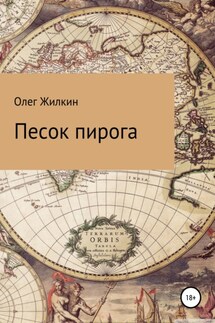198 басен дедушки Крылова - страница 26
«Стрекоза и Муравей». Рисунок Н. Денисова. 1898
«Стрекоза и Муравей». Басня опубликована в журнале «Драматический вестник» в 1808 г. О времени написания данных нет. Текст окончательно установлен в издании 1815 г.
Басня самим автором была отнесена к числу «переводов или подражаний». Она представляет собой переработку басни Лафонтена «Кузнечик и муравей», в свою очередь обращавшемуся к одноименной басне Эзопа. До Крылова в России этот сюжет разрабатывали Сумароков, Хемницер (у обоих – «Стрекоза») и анонимные авторы в журнале «Прохладные часы» (1793 г.).
«Стрекоза и Муравей» – единственная басня Крылова, написанная размером хорея, то есть двусложными стопами с ударением в первом слоге. Остальные его басни написаны ямбом, то есть также двусложными стопами, но с ударением на втором слоге.
В басне выражена мысль, что человеку следует трудиться и заботиться о своем будущем, а не предаваться одним удовольствиям и наслаждениям.
Катит – быстро приближается.
Помертвело поле – на поле не осталось ничего живого: ни растений, ни животных.
Стол и дом – пища и приют.
Удручена – измучена.
Вешние – весенние.
Мурава – густая сочная трава на корню.
Голову вскружило – потеряла рассудительность.
Без души – не помня себя от восторга.
XIII
Лжец