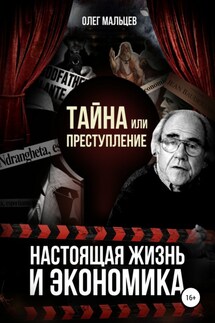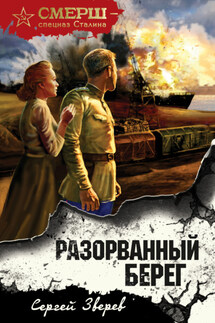450 лет лидерства. Технологический расцвет Голландии в XIV–XVIII вв. и что за ним последовало - страница 19
.
Другие «траекторные» теории делают акцент одновременно на парадигматической функции известных способов решения технических задач, именуемых «технологическими траекториями», «технологическими режимами» или «технологическими стилями», и на возможностях отбора, применимых на разных уровнях абстракции. «Технологические траектории», по емкому определению Джованни Дози, это схемы «нормального процесса решения задач (…) на основе технологической парадигмы», а «технологические парадигмы» – это «модели», или «схемы», решения «избранных технических задач, основанные на избранных принципах, открытых научным поиском, и на избранных материальных технологиях». Когда некоторая технологическая траектория уже «задана и выбрана», пишет Дози, «она обладает собственным импульсом движения». Сам же выбор, по его мнению, диктуют не требования технологии, а рыночные механизмы и политические и организационные факторы[33].
Ряд ученых сделали в этом рассуждении следующий шаг, сформулировав завершенную эволюционную теорию научно-технического прогресса[34]. В сущности, подобные теории состоят, с одной стороны, из набора постулатов, объясняющих вариации появления технических новшеств, а с другой стороны, из моделей, описывающих механизм отбора. В обеих частях уравнения авторы склонны занижать роль «собственной динамики». Если постулируется, что вариации обновлений случайны или происходят по некоторой системе (например, в результате выбора той или иной стратегии научно-технического поиска)[35], считается, что их источник – не только в самой динамике технического развития. Даже если инновации основаны на уже существующих объектах и идеях[36], считается, что источник творчества находится не внутри самой технологии, а в более широком социально-экономическом, культурном и интеллектуальном контексте. То же предполагается и в отношении отбора: какие из новшеств выживут, определяют рыночные и нерыночные силы, действующие в среде, а не технология как таковая[37].
Самые мягкие разновидности теории «собственной динамики» придают «социальной, экономической, политической и культурной матрице» еще большее значение. Мансур Олсон утверждает, что в любом стабильном обществе с закрепленными границами появляются «организации и сговоры в целях выгоды», или «распределяющие коалиции», которые неизбежно начинают снижать способность общества усваивать технические инновации[38]. По мнению Джона Стауденмайера, развитие любой эффективной технологии неизбежно подразумевает возникновение трех «кругов причастных»: это «конструкторский круг», состоящий из индивидов и организаций, генерирующих оригинальные конструкции, «круг страдания», объединяющий всех индивидов, субъектов и организации, которые проигрывают от появления новой технологии, и «круг поддержки» – «все люди, объединения и организации, попавшие в зависимость от новой технологии и, соответственно, вынужденные мириться с ограничениями, которые она накладывает»: этот круг обычно противится дальнейшей модификации технологии, даже если меняются внешние условия[39].
В этой книге о технологическом могуществе Нидерландов я буду обращаться к работам по всем трем уровням технологического лидерства. В рассуждениях о том, как Нидерланды стали лидером технического прогресса и как утратили эту роль, исследования исторических случаев технического лидерства будут не менее полезны, чем труды о силах, лежащих в основе «Закона Кардуэлла», и теории научно-технического прогресса и инноваций. Теории спроса и «жестко детерминистские» теории научно-технического развития, однако, вряд ли будут настолько же полезны, насколько теории с «нежесткого» полюса гипотез о собственной динамике технического прогресса – по причинам, изложенным выше. Настоящий фундаментальный разбор восхода и заката голландского технологического лидерства, в свою очередь, поможет глубже понять различные аспекты такого явления, как техническое лидерство вообще.