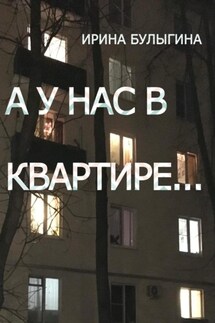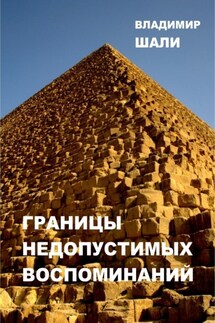А у нас в квартире… - страница 11
Моё отношение к обуви на каблуках нельзя назвать позитивным. Хотя моя молодость совпала с периодом, когда они были в большой моде. Собственно, обуви без каблука, кроме кедов и сандалий, и не было. Хоть маленький каблучок, даже широкий и неуклюжий, был на всей обуви. Женщины настолько с ним свыклись, что многие чувствовали себя без каблука некомфортно даже в домашних тапочках.
Конечно, я носила обувь на каблуках: и босоножки, и туфли, и сапоги. Единственные каблуки, которые я не носила, были средней высоты (3–4 см): мне они представлялись ужасными, ни то ни сё, какие-то подпорки. Каблуки должны были быть высокими, тонкими. И ходили мы на них и зимой по льду, и по скользкому полу, и по грязи. И бегали за автобусами, и балансировали с тяжёлыми сумками в руках по дороге из магазина. Вы спросите: «Почему?» А всё довольно просто. К сожалению, купить обувь хорошего качества в нашей стране было проблемой. Тут уж что есть, то есть. И самым печальным для меня, например, было то, что вот обувь-то я сама сделать не смогу. Можно сшить, связать одежду, можно соорудить сумку, а вот с обувью – западня, абсолютная несвобода и зависимость от обувных фабрик, от поставщиков обуви, от магазинов, от знакомств…
И вот представьте: подступает зима, и нужны зимние сапоги. И не просто для того, чтобы было тепло, но, чтобы и красиво, и добротно, чтобы и на работу, и в театр можно было пойти. А поскольку зимние сапоги были довольно дороги, то можно было позволить себе купить одни, но уж на все случаи жизни.
В магазинах – «огромный» выбор обуви под общим названием «прощай молодость». Тихо, уныло, безлюдно. И тут замечаешь, как у обувного магазина или отдела стремительно образуется толпа, быстро переформатируясь в очередь. Бежишь, занимаешь очередь, а потом уж спрашиваешь:
– Что выбросили?
– Сапоги.
– Чьи?
– Югославские.
Ооо! Ну, тут и думать нечего. И уже неважно, какого они цвета, какого фасона, удобно тебе будет или нет. Стоишь (часа так три), покупаешь и, переполненная счастьем, несёшь эту обувную коробку по улицам. Это если повезёт, и достанется твой размер. Прохожие или коллеги, если пришлось отпроситься с работы в очередь (отпускали, кстати, всегда), спрашивают: «Что давали? Где достала? Что выкидывали?» Глагол «купить, купила» был совершенно неуместен. Да и вопрос цены не стоял. С деньгами мы всегда выкручивались: можно было накопить («отложить на что-либо»), занять у друзей, соседей, коллег (очень распространённая практика), наконец – взять в кассе взаимопомощи на работе (великая вещь: и удобно, и никаких процентов)!
Дома начинаешь соображать, зачем ты это купила, с чем это носить, подходит это тебе или нет. Хорошо, если ответ будет положительным. Но это бывало не всегда. И что делать? Можно предложить знакомым (только близким, чтобы не заподозрили в спекуляции) или положить куда-нибудь в дальний угол шкафа «до востребования». У меня была пара таких случаев, один из них – с теми самыми югославскими сапогами. Они были бордовыми и на высоком каблуке, и ни к чему, на мой взгляд, не подходили. Я их не продала, и они пролежали, новенькие, лет 10 на антресолях, а потом были выставлены к помойке. Надеюсь, кому-то они пригодились. А я в тот год так и проскакала всю зиму в осенней обуви.
Такая «петрушка» была с любой обувью, и с мужской, и с женской, и с летней, и с зимней. Но, благодаря терпению, желанию, настойчивости, заботе профсоюзов, которые порой устраивали на предприятиях и в организациях распродажи «для своих», все мы в итоге, во всяком случае – в Москве, – были обуты, не разнообразно, но весьма прилично, даже – модно. Сложнее было провинциалам.