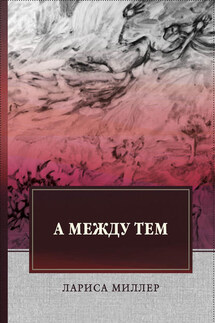А у нас во дворе - страница 34
Маму уволили из “Красноармейца” вскоре после ареста Василия Ивановича. Что такое “уволили”, я плохо понимала. Но помню, как мама вернулась с работы непривычно рано и позвонила Верке, своей давней подруге: “Ты знаешь, я вышла на улицу, перекинула пальто через руку, поглядела вокруг, и мне захотелось кричать”. Я с опаской смотрела на маму, которая почти не говорила со мной.
Как же так? Как же можно, чтоб маму выгнали из дома с колоннами, из нашего “Красноармейца” одну на улицу?
“Ты знаешь, говоря по-эзоповски, на этот дом надо бомбу сбросить”, – сказала я маме. Я помнила, что есть некий “эзоповский” язык, которым иногда пользовалась мама, разговаривая в моем присутствии с кем-нибудь из взрослых, и решила, что пришло мое время говорить на этом языке.
Много лет спустя, не помню почему, мы с мамой приехали в ЦДКА, и пожилая гардеробщица, увидев маму, всплеснула руками: “Белочка, да ты ли это?” Они расцеловались, поговорили. А когда мама отошла, гардеробщица сказала мне: “Какая она красавица была. Многие по ней вздыхали. Она и сейчас хорошая, но в те-то годы…”
Снимки, снимки, снимки. Вот мама молоденькая в гимнастерке, вот она в ушанке и шинели. Вот ее пропуск на беспрепятственный проход по Москве во время воздушной тревоги. Вот она с папой перед его уходом на фронт. Это их последняя фотография. Они улыбаются друг другу. На папе военная форма. На маме шерстяная кофточка, которую я помню до мельчайших подробностей: коричневая, с бежевым воротником и бежевыми манжетами. Кофта была длинная, уютная, и мама любила носить ее в морозы. Я даже помню ее на ощупь, потому что часто, уставая, тянула маму за бежевый манжет и ныла: “Пойдем домой”.
Мама часто таскала меня с собой. Иногда потому, что не знала, куда меня деть. Иногда просто так, “для веселья”.
Меня так и прозвали – “Белкин хвост”.
Куда и к кому только не ездила мама, спецкор “Красноармейца”, самого популярного и читаемого в те годы журнала: к Калинину, Вышинскому, Туполеву, Ал. Толстому, Эренбургу, Гр. Александрову, Л. Орловой, Целиковской, Руслановой, Мих. Жарову. Мы ездили к Папанину на дачу, где я впервые в жизни каталась на машине, большой, черной, неуклюжей. Мы ехали по ухабистой, грязной проселочной дороге. Папанин сидел за рулем, а мы с мамой подпрыгивали на заднем сиденье. Когда мы особенно высоко подпрыгнули, Папанин обернулся и весело спросил меня: “Ну, что, мартышка, совсем жопку отбила?” Черная машина и слово “жопка”, произнесенное знаменитым дядей, были самыми сильными впечатлениями этой поездки. Папанина я помню смутно, но хорошо помню, что он пригласил нас остаться на обед, который уже подавали в просторной столовой. Помню, что удивительно вкусно пахло едой и что мне очень хотелось есть. Помню свою досаду на маму, которая неизвестно почему отказалась остаться и увела меня, голодную, домой, накормив по дороге бутербродами. Помню смуглый мамин кулачок, которым она наподдала мне на улице за то, что я слишком настойчиво и громко требовала, чтоб мы остались обедать.
Обычно я вела себя тихо, но иногда подавала голос, и не всегда удачно. “Ваша фамилия Толстой, потому что вы толстый?” – спросила я большого, грузного Ал. Толстого. Толстой без улыбки посмотрел на меня и молча протянул мне конфету, а маме – сложенные трубочкой страницы, написанные для “Красноармейца”. Однако голос, поданный мною в проходной Кремля, помог мне пройти к Ворошилову вместе с мамой. Охранники сами догнали маму и попросили взять с собой громко плачущего ребенка. Так я оказалась в кабинете Ворошилова. “Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папи с винтовкой на посту!” – декламировала я, стоя на столе в кабинете Ворошилова. Я говорила “папи” с гордостью, так как знала от домашних, что папа мой погиб на фронте. Однажды поздно вечером я слышала сквозь сон, как мама рассказывала бабушке, что кто-то вошел в редакцию и сказал: “Белла, иди скорей. Тебя какой-то мужчина ждет внизу. Сказал – позовите Беллу. Скажите, что ее ждет Миллер”. Представь, хочу бежать вниз, а ноги не идут”, – говорила мама. “Спускаюсь по лестнице, а ноги ватные. Понимаю, что бред, что Миши нет в живых, что это не Миша, а брат его, а все-таки думаю – а вдруг, а вдруг. Спускаюсь вниз, а там Аркадий.