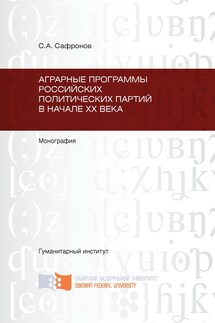Аграрные программы российских политических партий в начале ХХ в. - страница 15
Интересна аргументация правого публициста М.М. Перовского, вознамерившегося опровергнуть известный тезис о том, что для крестьянина вся земля ничья, Божия. Такое представление, с его точки зрения, действительно укоренилось среди земледельцев, но мужики уже ставшие (при помощи Крестьянского банка) собственниками, демонстрируют совершенно обратное: они и не думают связывать свое приобретение с судьбами «мира»63. Его мысли вполне совпадают с мыслями Н.Н. Зворыкина, который и само требование отчуждения земель рассматривал в качестве проявления частнособственнических тенденций как со стороны крупных домохозяев, якобы желавших усилить земельный фонд общины для эксплуатации (на полученных землях) менее обеспеченных ее членов, так и со стороны мелких общинников, показывающих поползновения к укреплению своей хозяйственной индивидуальности, которую можно противопоставить влиянию верхушки. «Где же тут стремление к коллективизму?» – задавался вопросом Н.Н. Зворыкин64.
Критики общины обвиняли ее в экономической неэффективности. К примеру, депутат Государственной думы от Всероссийского национального союза Н.Н. Ладомирский отмечал, что общинники возделывают землю, руководствуясь не личными хозяйственными соображениями, а мнениями «мира», выраженным в его коллективных постановлениях. Они зависят от «мирского» решения даже в области севооборотов, установления сроков начала и окончания сельских работ. «Слепой консерватизм и бесконечная рутина» – такой была его общая оценка общинной организации65. Не менее категоричным был в своих суждениях Н.Н. Шестак-Устинов. Его не устраивала медлительность общинного схода, отнимающего много времени и энергии на споры, обсуждение. По его мнению, только частная собственность способна была пробудить настоящую инициативу и защитить (в экономическом плане) слабого мужика от сильного, ведь разбогатеть самому верный способ избежать эксплуатации со стороны богатых66.
С.А. Володимеров возложил на общину, вернее на политику правительства, старающегося любой ценой сохранить стабилизирующую и землесберегающую ее функцию, вину за провал кредитного дела и связанный с ним недостаток финансовых средств на селе. Оказывалось, что именно меры по сохранению неотчуждаемости имущества уничтожили тот гарант, который был необходим для получения кредита67. Оказалось также, что община виновна в ухудшении материального положения российского крестьянина. «Через это трижды проклятое общинное землевладение, – писал Н.Е. Марков, – наш народ так ужасно, так поразительно обнищал». Общинному идеалу многие из крайне правых противопоставляли идеал крестьянина-собственника, владеющего большим количеством земли, причем настолько значительным, что вслед за Н.Е. Марковым их можно было назвать «крестьянами-помещиками», или, выражаясь словами М.О. Меньшикова «собирателями земли Русской»68.
Положительно оценивая будущность такого крестьянина, русские националисты были вынуждены искать аналогии в практике нелюбимого ими Запада, подобно лидеру Объединенного дворянства графу А.А. Бобринскому, приводившему в пример крестьянские хозяйства Западной Европы, которые после ликвидации тамошней общины стали богатеть и причиной чему, по его мнению, была «личная крестьянская наследственная собственность»69. Или подобно епископу Митрофану (лидера фракции правых III Государственной думы), прямо признавшему: «Пришло время заменять старое новым и заимствовать западноевропейские новшества при всем отрицательном (!) к ним отношении»