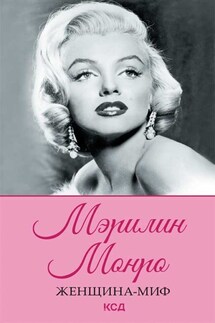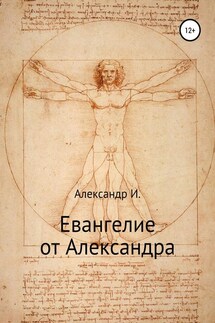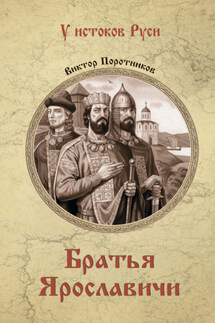и более тонкие (кроме общего – провокационности) совпадения: «И тот и другой не обошли своим вниманием тему порнографии и мазохизма, а свою “Нимфоманку”, где героиню так же самозабвенно хлещут по ягодицам, Триер вполне мог бы назвать “Про уродов и людей”. Для обоих полна символики водная стихия: чаще всего она становится метафорой разложения, тлена и декаданса. Оба выдают время от времени радикальные хулиганские жесты, когда кажется, что их “несет”, но это только так кажется. Про выходку “фашиста” Триера все помнят
[2]. Балабанов выступал не столь громогласно, но тем, кто слышал его хлесткие заявления против “буржуев”, скандальности тоже хватило. Когда ему для поездки на фестиваль в Роттердам не продлили визу, он назвал Голландию фашистской страной. А после “Брата”, отвечая на “Кинотавре” на наскоки либералов, уличивших его в ксенофобии, говорил: ну это же правда, что русский народ евреев не очень… Когда корреспондент “Радио «Свобода»” Петр Вайль (большой поклонник “Замка”) попытался в кулуарах прояснить позицию режиссера, тот был краток: “Просто я родину люблю”. Тогда любить родину было в России непопулярным занятием, тем более крайне интересно узнать, что сказал бы Балабанов сегодня по поводу Украины и Севастополя. Рискну предположить, что он бы опять удивил многих, в том числе расплодившихся патриотов. Но этого мы, конечно, точно никогда не узнаем. <…> В чем оба художника несомненно сошлись бы – это в своем негативизме по отношению к Америке. Оба они готовы объявить ей кирдык. Но опять же: один ненавидит ее слева, а другой, скорее, справа. Ненависть, как известно, оборотная форма любви. И неслучайно оба изобретают свою Америку. Триер выстраивает и вычерчивает ее в Европе, населяя заокеанскими актерами-мифами в “Догвилле”, снимая “Танцующую в темноте” и “Мандерлей”. А Балабанов посылает Данилу Багрова за океан и дает русского Фолкнера в “Грузе 200”».
Так или иначе, в середине девяностых оба они снимали малобюджетное, предельно конкретное, вызывающее яростные споры кино (сам Балабанов, по свидетельству Надежды Васильевой, к Триеру относился неоднозначно: жаловался, что «все трясется»; «Рассекая волны» он забраковал при первом просмотре, но потом посмотрел еще раз – и полюбил).
Балабанов вспоминал, что сюжет «Брата» родился из его старой идеи соединить в одном фильм бандитов и музыкантов: «Я и с теми общался и с другими, знал эти миры – музыкальный лучше, бандитский хуже». Интенсивность саундтрека, почти полностью составленного из песен «Наутилуса» и Вячеслава Бутусова (друга Балабанова еще по Свердловску [1-06]), в 1997 году раздражала критиков не меньше, чем моральная амбивалентность героя. Кому-то фильм представлялся полуторачасовым музыкальным клипом для группы, которая пережила пик своей популярности в перестроечные восьмидесятые. Широкой публике, однако, понравилась и амбивалентность, и музыка.
Позднее «попса своего века» – от «Сплина» в «Войне» до «Кокаинеточки» [1-07] в «Морфии» – стала одним из самых узнаваемых элементов балабановского кинематографа. Если в «Счастливых днях» звучали арии Вагнера и фокстрот Гарри Уоррена, а музыку к «Замку» писал Сергей Курехин, то саундтрек «Брата 2» разросся до масштабов рок-антрепризы, разошелся многотысячными тиражами и в сентябре 2000 года стал концертом в СК «Олимпийский». «У него во всех картинах музыка – первая, – говорит Надежда Васильева. – Он всегда знал, какая именно будет».