Алексей Лосев и разгадка двадцатого века - страница 30
Многие авторы, которым было что сказать в тот трудный год, несомненно, искали любую возможность для публикации своих работ, в том числе, и за пределами России. Лосевский очерк – прямое тому подтверждение. Возможно, он был заказан составителями сборника, в выходных данных которого значится В. Эрисман-Степанова – жена известного немецкого философа. Как бы то ни было, важен сам факт выхода в свет работы молодого, ещё не обретшего имени в научном мире, но переполняемого собственными творческими замыслами учёного, который собирается пролить свет на самобытную русскую философию.
В чём же, по мнению автора, её самобытность? Прежде всего – в отсутствии логической последовательности и системной упорядоченности, то есть именно того, с чем принято связывать философию как средство для приведения мыслей в порядок, и в чём подаёт пример немецкая философия, целиком состоящая из завершённых систем. В России же философия – интуитивное, можно сказать, мистическое творчество, не стремящееся к такому порядку, да и не видящее в нем особой необходимости. Конечно, справедливости ради, следует отметить, что ей всё же понадобился толчок со стороны: идеи французского Просвещения пробудили в XVIII веке философские интересы в России. Правда, отмечает Лосев, здесь слово «вольтерьянец» относилось, скорее к повседневной жизни, а не к философии: так обычно называли склонного к материализму вольнодумца. Впрочем, вскоре всё это было вытеснено влиянием на умы набиравшем в первой трети XIX века силу немецким идеализмом.
Однако уже в 40-е – 60-е годы в качестве его противников выступили славянофилы. Пройдя предварительно школу самогó немецкого идеализма, они противопоставили его логическим построениям веру, которую питает не философская система, а цельноезнание, основанное на органической полноте жизни. Славянофильство представляло собой национально-романтическую идеализацию старины; оно исходило из того, что Россия верна цельной истине христианской Церкви, стало быть, свободна от расслаивающего духа рационализации, и её философия должна быть продолжением философии святоотеческой. Прямой противоположностью славянофильству стало «западничество», влиятельное в России в 40 – 80 годах, не признававшее за русской культурой никакой оригинальности и призывавшее к полному культурному воссоединению с Западом. Это направление носило исключительно публицистический характер, и ему далеко было до построения какой бы то ни было философской системы.
В 60-е – 70-е годы в России распространились пришедшие из Германии материализм и позитивизм, причем, по старорусскому обыкновению они обрели вполне практическое выражение. Наконец, сменившее материализм и западничество чисто идеалистическое направление, развившееся в конце XIX – начале XX века, также бесконечно удалено от систематизации, если она вообще возможна из-за широты поставленных задач и всеохватности философских откровений. Даже наиболее выдающиеся представители этого направления смогли наметить всего лишь общий план системы. У тех же их последователей, которые решили вести глубокую системную проработку задач, сами задачи вскоре сузились до пределов чистой теории познания.
Вместе с тем отсутствие завершённых философских систем в России компенсируется её художественной литературой, в которой часто разрабатываются основные философские проблемы, естественно, в исключительно практической, ориентированной на жизнь форме. То же самое следует сказать и о связанной с действительной жизнью публицистике, так что гениальных философов нужно искать среди фельетонистов, литературных критиков и теоретиков отдельных партий.

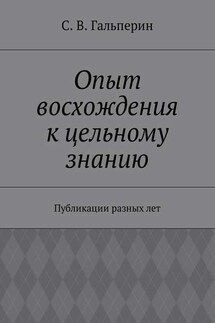

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



