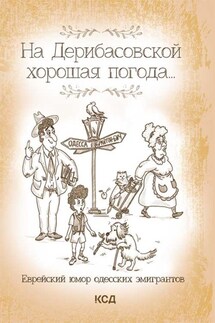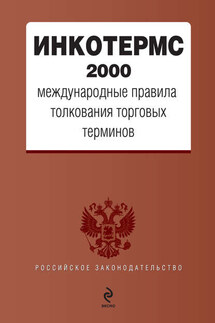Алтарь без божества - страница 19
Выяснять, что бы это значило, мне было «не досуг». Тем и оправдывал я тогда причину – неубедительную – своего непорядочного действия, вернее бездействия. Кто-то за это проклянет меня. И правильно сделает…
Малое и великое
Последующие три зарисовки – тоже из старого портфеля. Правда, в них речь идет не о моих земляках непосредственно. Ну, и что из этого? Важны детали.
I
Крестьяне Медынского уезда славились своей смекалкой и умением всякие дела делать. Давным-давно, когда еще промышленные предприятия по России были слабы и хилы, как всходы осени, выросшие на не удобренной почве и из неважных зерен, крестьяне были вынуждены обеспечивать себя всем тем, чем со временем стали их снабжать фабрики и заводы. Валенки, кожаные сапоги, армяки (в общем всякая одежда), сани, телеги и прочая хозяйственная утварь, столь необходимая в крестьянстве, делалась ими самими. Но вместе с тем каждая деревня в отдельности славилась чем-либо особенным. Так, мужики из Кременска были известны по всей округе как удалые, способные плотники, адуевские парни – были спецами по части поделки колес и саней, логачевцы задавали тон в выделке кож и пошиве сапог.
Шли годы. Но тяга к тому ремеслу, что передавалась из поколения в поколение в крестьянских семьях, в крестьянских общинах, оставалась надолго, как оставались своеобразные черты в характере особого мужицкого сословия.
Георгий Балакин, родившийся в деревне Логачево, в крестьянской семье в 1911 году, переживший падение царской империи и зарождение нового уклада, как и следовало ожидать, впитал в себя от своих родителей – людей прошлого – любовь к кропотливому физическому труду, а от нового времени – размах души и полет фантазии. Его и самостоятельная жизнь началась с того, что он в 1927 году начал трудиться на кожевенном заводе в Медыни (завод тогда располагался на территории нынешнего льнозавода), и тогда же, увлекаемый течением новой жизни, стал Георгий комсомольцем.
Быть комсомольцем было не просто. Само по себе званье комсомольца никакой материальной выгоды не приносило, но времени забирало свободного уйму. А если учесть, что отец и направил сына в город лишь с той целью, как бы деньжонок иметь побольше, то и совсем становится понятно, каково было 16-летнему мальчишке оправдывать свой поступок перед отцом. Доводов идеологического порядка отец и слышать не хотел, а часто в ответ на них шел в сени, брал кнут и применял его с таким остервенением по отношению к «непутному» сыну, как и к тощей своей лошаденке, когда та выбивалась из сил на полосе или дороге. Уйти из дома Григорий не мог: почтение к отцу и матери (такое сильное у людей его поколения) не позволяло это ему сделать.
Отец со временем от домостроевских замашек освобождался, но освобождался медленно, как и все его сверстники. Многого еще не понимал в то время старый крестьянин. Порой он в своих намерениях отлучить сына от комсомола доходил до иезуитства.
Как-то в ночь на пасху отец не пошел святить куличи в церковь лично сам, а послал сына-комсомольца. К удивлению, сын не отказался, и утром, когда все логачевские богомольцы возвращались из медынской церкви, принес бате кулич. Крестясь и читая молитву, старик стал разговляться. Разговлялся и сын. Угрызения совести его не мучили нисколько: кулич был вкусный, ароматный – и неудивительно: ведь святился он не водой из поповского кувшина, а утренней росой с вербы, где он, завернутый в полотенце, пролежал всю ночь, так и не побывав в церкви.


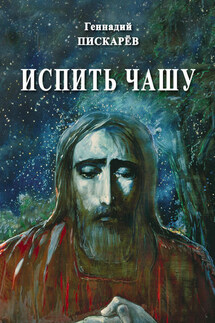
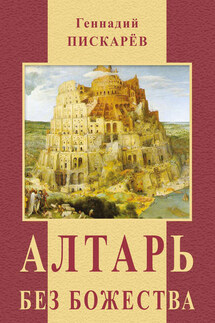

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)