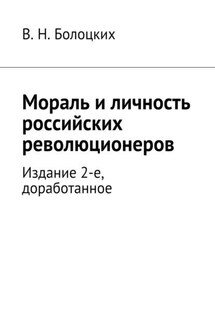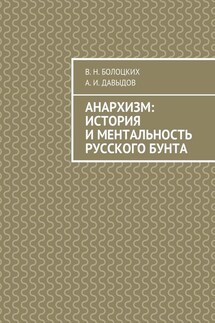Анархия и коммунизм: теория и жизнь - страница 52
«Это также объясняет, – по его мнению, – почему буржуазия, едва придя к власти, начинает обнаруживать бесспорные признаки разложения и упадка. По природе своих повседневных занятий слишком реалистичная, чтобы искать опоры в великих идеалах патриотизма и религии, она вынуждена довольствоваться весьма сомнительными и спорными идеалами метафизики и юридического права, и ей никогда не удаётся скрыть, даже от самой себя, свою низкую сущность. В этом отношении игроки на бирже, крупные промышленные, торговые и банковские компании, финансовые и политические спекулянты, контрабандисты, грабители – группы, легче всего поддающиеся коррупции, ибо они – ещё большие реалисты, чем основная масса буржуазии. Они цинично срывают всякую маску, отбрасывают всякую видимость идеала и открыто проявляют свою истинную сущность эксплуататоров богатства и труда нации. Члены этих различных сообществ объединяются уже не во имя какого-то принципа, истинного или ложного; они связаны друг с другом лишь личной выгодой. Такова истинная коррупция»130.
Получается, что эксплуатировать и грабить народ, прикрываясь хотя бы и ложными идеалами, аморально, но можно, это не является разложением и упадком. А если при этом сохранять внутри групп некоторую коллективную солидарность и грабить из-за бедности как «шайки контрабандистов, разбойников и воров», (хотя контрабандисты, разбойники и воры вовсе не обязательно были и есть бедные), то можно считаться и достаточно моральными. Бакунин прямо заявлял: «Итак, до тех пор, пока индивид сохраняет верность и страстную преданность общим и более или менее идеализированным интересам какого-либо коллектива, как бы ни были аморальны поступки, которые он совершает ради этого сообщества или совместно с ним, нельзя сказать, что он коррумпирован».131
То есть, если буржуазия, стремясь к личной выгоде, создаёт рабочие места, организует рост производства богатства нации, но при этом не скрывает своей личной выгодой какими-либо «более или менее идеализированным интересам какого-либо коллектива», то это однозначно плохо, она коррумпирована и разлагается, её надо уничтожать. А если просто грабить и воровать, но во имя даже фальшивых идеалов коллектива, то это морально и простительно.
Если признаётся разнообразие людей как богатство человечества, то следует признать социальную и имущественную иерархию в обществе, а также почти неизбежно – и политическую иерархию, как положительное явление. А значит следует по иному следует подойти и к неравенству. Неравенство не обязательно есть зло, оно является производным свойством от существования иерархии в обществе, а без иерархии общество не существует.
Идеи равенства как уравнения, справедливости как равенства в «исходной точке» человеческой жизни, а значит отрицание, непонимание роли, функций и значения общественной иерархии и вытекающего из неё неравенства, являются следствием неверного понимания причин происхождения государства и права, их роли в жизни общества. На этот недостаток взглядов Бакунина обращает внимание В. Г. Графский: «В восприятии политического права только как порождения силы и политического принуждения со всей определённостью проступает метафизическая и вместе с тем задогматизированная версия концепции естественных, неотчуждаемых прав человека, так радикально прозвучавшая в период американской и французской буржуазно-демократических революций». В таком случае, продолжает исследователь, без учёта социально-регулирующей, социально-культурной, идеологической и других функций политического права, «остаются без необходимого внимания не менее существенные взаимосвязи права, выраженного в юридическом законе, – например, права и обычая, права и морали, права и социальной справедливости, права и свободы. В „юридическом анархизме“ Бакунина право как юридическое установление и как требование предстаёт лишь своеобразным техническим средством, применение которого обеспечено государственным принуждением. Между тем и государственный закон, и политическое правосознание групп или классов данного общества могут отображать и поддерживать свободолюбивые устремления не одних только консервативных общественных групп, сил и массовых движений».