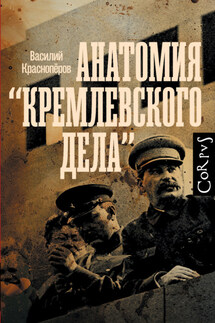. Отметим, что в 1935 году субботы (тогда – рабочие дни) приходились на 19 и 26 января и 2 февраля. Если верить Раевскому, то получается, что Е. Ю. Раевскую арестовали раньше всех, но это не так. На тюремной фотографии Лёны, сделанной в день ареста, указана дата 29.1.1935. Да и ордер на обыск в комнате у Раевских датирован тем же числом. И уж совсем неправдоподобно выглядит рассказ Сергея Петровича о том, что об арестах Н. А. Розенфельд и Е. К. Мухановой Лёне стало известно еще до Нового года! Нина Розенфельд действительно была арестована чуть раньше Лёны, а вот библиотекаршу Екатерину Муханову, одну из основных фигуранток будущего “кремлевского дела”, арестовали в первой декаде февраля (не позднее 9–10 числа – это зафиксировано в протоколе допроса Марии Мухановой, сестры Екатерины; это же подтвердил на допросе 8 марта 1935 года брат Екатерины Константин Муханов, заявив, что последний раз виделся с ней 6 февраля, а 11‐го узнал о ее аресте), тогда же, скорее всего, были арестованы и остальные библиотекарши; по линии же комендатуры Кремля (на основании показаний брата и сестры Синелобовых) были “изъяты” чекистами В. Г. Дорошин (помощник коменданта Кремля), И. П. Лукьянов (комендант Большого Кремлевского дворца), И. Д. Гавриков (приятель Алексея Синелобова, начальник химической службы 2‐го полка Московской пролетарской стрелковой дивизии), И. Е. Павлов (помощник коменданта Кремля, ведавший “спецохраной”), П. Ф. Поляков (начальник АХО Управления комендатуры Кремля). Таким образом, как минимум с 31 января 1935 года официально оформляются три новых направления следствия: родственники Л. Б. Каменева, Правительственная библиотека и комендатура Кремля (арест Гаврикова, не имевшего отношения к комендатуре, тоже получил продолжение). Однако трудно отделаться от подозрения, что аресты членов семейного клана Каменевых-Розенфельдов были проявлением воли одного человека, ясно выраженной еще до того, как чекисты смогли их хоть как‐то запланировать и “обосновать” вымученными из арестованных показаниями. Правда, не совсем ясно, был ли сам Л. Б. Каменев изначально намечен в качестве жертвы, или же к его осуждению по “кремлевскому делу” привела “логика” следствия. Ведь по итогам только что закончившегося процесса “Московского центра” Каменев получил удивительно мягкий приговор – 5 лет политизолятора; в приговоре это объяснялось тем, что Лев Борисович “в последнее время” не принимал “активного участия” в деятельности “центра”. Нет никакого сомнения, что приговор был согласован со Сталиным, который и распорядился насчет “смягчения” наказания – ведь, пользуясь тем, что процесс был закрытым, чекисты легко могли подвести Каменева и под более тяжкую меру ответственности, не особо заботясь об убедительности доказательств его контрреволюционной деятельности.
В описываемый период Правительственная библиотека располагалась в Кремле в здании Правительства СССР (Сенатский дворец). Там же, на 2‐м этаже, рядом с пересечением двух крыльев здания бывшего Сената с 1930 года располагался кабинет Сталина, именуемый “уголок”, под ним на первом этаже в левом крыле здания находилась и квартира Сталина (до 1933 года ее занимал Бухарин, а после переезда туда Сталина в служебных помещениях второго этажа сделали перепланировку). Как следует из протокола допроса М. Я. Презента (о котором речь пойдет ниже) и из других документов “кремлевского дела”, библиотеку ЦИК СССР основал директор ИМЭЛ Д. Б. Рязанов (он и сам был членом ЦИК СССР и входил в состав его бюджетной комиссии). Рязанов же в 1922 году пригласил Презента на должность ответственного секретаря библиотеки, который и был призван руководить ее повседневной деятельностью. Рязанов же сохранял влияние на подбор персонала как минимум до 1927 года. В конце 1930 года произошло слияние трех библиотек – СНК СССР, ЦИК СССР и Президиума ВЦИК РСФСР – в одну Правительственную библиотеку СССР и РСФСР, ответственным секретарем которой стал все тот же Михаил Яковлевич Презент. Эти обязанности он выполнял до 19 февраля 1931 года. “Правление” Презента закончилось одновременно с внезапным падением Д. Б. Рязанова, которому припомнили его меньшевистское прошлое (ОГПУ в то время готовило фальшивый “процесс союзного бюро меньшевиков”) и излишний либерализм. Рязанов был снят со всех постов, исключен из ВКП(б), изгнан из академиков, арестован и сослан в Саратов (Презент же, утратив контроль над библиотекой, оставался, однако, в аппарате ЦИК СССР до апреля 1932 года и, даже перейдя на другую работу, продолжал поддерживать дружеские отношения с А. С. Енукидзе). Новой заведующей библиотекой стала старая большевичка Елена Демьяновна Соколова, член ВКП(б) с 1902 года. Ко времени ее назначения, по ее словам, коллектив библиотечных работников состоял из 13 человек, среди которых было 4 комсомольца и ни одного партийца. Эту цифру уточняет заведующий секретариатом Президиума ЦИК СССР С. П. Терихов в своем объяснении М. Ф. Шкирятову: штат библиотеки 15–20 единиц, огромная текучка кадров (до 1935 года уволено 33 человека, 10 из них “в порядке прямой чистки”)