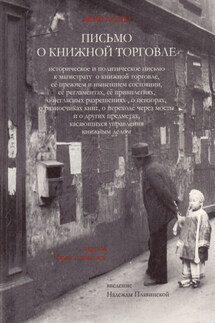Анатомия «кремлевского дела» - страница 2
Оставил воспоминания о Енукидзе и Лев Давидович Троцкий. Будучи в изгнании в Мексике, он в начале 1938 года написал очерк об Авеле Сафроновиче, в котором дал его достаточно детальный портрет:
Енукидзе был политически второстепенной фигурой, без личных амбиций, с постоянной способностью приспособляться к обстановке… человек доброй души… Оратором он не был, но русским языком владел хорошо и, в случае нужды, мог сказать речь с меньшим акцентом, чем большинство грузин, включая Сталина. Лично Енукидзе производил очень приятное впечатление – мягкостью характера, отсутствием личных претензий, тактичностью. К этому надо прибавить еще крайнюю застенчивость: по малейшему поводу веснушчатое лицо Авеля заливалось горячей краской…
Приведенная выше характеристика относится к дореволюционному периоду. Троцкий считал, что Енукидзе не проявил себя стойким большевиком в “годы реакции” после 1905 года и в период между февралем и октябрем 1917‐го. А после Октябрьской революции
те “старые большевики”, которые в период реакции порывали с партией, допускались… на советские посты, но не партийные. К тому же у Енукидзе, как сказано, не было никаких политических претензий. Руководству партии он доверял полностью и с закрытыми глазами. Он был глубоко предан Ленину, с оттенком обожания, и – это необходимо сказать для понимания дальнейшего – сильно привязался ко мне. В тех случаях, когда мы политически расходились с Лениным, Енукидзе глубоко страдал. Таких случаев, к слову сказать, было немало.
Не играя сколько-нибудь значительной политической роли, Енукидзе занял, однако, важное место если не в жизни страны, то в жизни правящих верхов. Дело в том, что в его руках сосредоточено было заведование хозяйством ЦИК: из кремлевского кооператива продукты отпускались не иначе как по запискам Енукидзе.
Рассказывая о том, как Енукидзе занимался устройством быта кремлевской верхушки и лично Сталина, Троцкий отмечал, что Авель Сафронович
относился к земляку не только без “обожания”, но и без симпатии, главным образом, из‐за его грубости и капризности.
Уверенными мазками рисует Троцкий и послереволюционный портрет Енукидзе:
Енукидзе жил в том же Кавалерском корпусе, что и мы. Старый холостяк, он занимал небольшую квартирку, в которой в старые времена помещался какой‐либо второстепенный чиновник. Мы часто встречались с ним в коридоре. Он ходил грузный, постаревший, с виноватым лицом. С моей женой, со мной, с нашими мальчиками он, в отличие от других “посвященных”, здоровался с двойной приветливостью. Но политически Енукидзе шел по линии наименьшего сопротивления. Он равнялся по Калинину… По своему характеру, главной чертой которого была мягкая приспособляемость, Енукидзе не мог не оказаться в лагере Термидора [то есть Сталина. – В. К.]. Но он не был карьеристом и еще менее – негодяем. Ему было трудно оторваться от старых традиций и еще труднее повернуться против тех людей, которых он привык уважать. В критические моменты Енукидзе не только не проявлял наступательного энтузиазма, но, наоборот, жаловался, ворчал, упирался. Сталин знал об этом слишком хорошо и не раз делал Енукидзе предостережения… – Чего же он (Сталин) еще хочет? – жаловался Енукидзе [Л. П. Серебрякову. – В. К.]. – Я делаю всё, чего от меня потребуют, но ему всё мало. Он хочет еще вдобавок, чтобы я считал его гением[3].
Подчеркивая терпимость Енукидзе к оппозиции, Троцкий упоминает в очерке и о том, как Енукидзе в 1925 году выделил самолет, чтобы И. Н. Смирнов и Х. Г. Раковский смогли прилететь к нему в Сухуми для переговоров о примирении Сталина с оппозицией. Однако надежды на мирный договор не сбылись. Далее Троцкий описывает роль Енукидзе в ЦКК в период борьбы с “новой оппозицией” (1928 год), указывая, что Авель Сафронович и тогда склонялся к необходимости хоть какого‐то примирения в рядах партии. Этого, как известно, и в тот раз не произошло – напротив, оппозиционеры были исключены из ВКП(б) и отправлены в ссылку. В 1929 году Троцкий и сам был выслан из СССР, и ценность его дальнейшего повествования о Енукидзе сходит почти на нет.