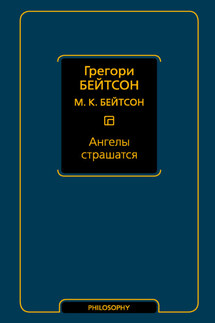Ангелы страшатся - страница 9
Определение святым Фомой смертного греха отмечено той же скрытой утонченностью. Грех считается «смертным», если его совершение способствует последующему совершению того же греха другими людьми «действуя наподобие [аристотелевской. – Примеч. пер.] “конечной причины”». (Хочу отметить, что, согласно данному определению, участие в гонке вооружений не просто грех, а грех смертный.) Фактически загадочные «конечные причины» в интерпретации святого Фомы в точности соответствуют тому, что современная кибернетика называет положительной обратной связью, дающей первое приближение к проблеме целенаправленности и причинности [особенно тогда, когда кажется, что причинно-следственные цепи идут против хода времени].
Как кажется, в дальнейшем богословие было во многих отношениях менее утонченным, чем богословие XIII века. Дело выглядит так, словно мысль Декарта (1596–1650), особенно дуализм разума и материи, знаменитая декларация «когито эрго сум» и декартовы координаты стали кульминацией долгого упадка. Греческая вера в «конечные причины» была грубой и примитивной, однако она оставляла открытым путь к монистическому ви́дению мира. В последующие века этот путь был закрыт и окончательно похоронен дуалистическим разделением разума и материи [из-за которого многие важные и загадочные феномены оказались словно бы вне материального мира, пригодного для научного изучения. Разум остался отделенным от тела, Бог остался вне творения, а научная мысль игнорировала обоих].
Преодоление картезианского дуализма далось мне нелегко. Читателя может позабавить рассказ о том, как я пришел к варианту монизма: к убеждению, что разум и природа образуют неизбежное единство, в котором нет ни разума, отдельного от тела, ни бога, отдельного от своего творения. После этого я научился смотреть на объединенный мир новыми глазами, совсем не так, как меня учили его видеть, когда я только начинал работу. Тогда правила были кристально ясными: при научном объяснении нельзя упоминать разум или богов, а также нельзя привлекать аристотелевские «конечные причины». Все причинно-следственные цепи должны разворачиваться в направлении хода времени, то есть будущее не должно влиять на настоящее или прошлое. В мире, подлежащем объяснению, нет места ни богам, ни телеологии, ни разуму.
Эта простая и суровая вера стала стандартом для той биологии, которая доминировала на протяжении 150 лет. Этот частный вид материализма развился в фанатизм после публикации Уильямом Пэйли его «Обзора свидетельств в пользу христианства» (Paley, 1794), что случилось за 15 лет до «Философии зоологии» Ламарка и за 65 лет до «Происхождения видов» Дарвина. Упоминание «разума», «телеологии» или «наследования приобретенных признаков» считалось в биологических кругах ересью до начала 40-х годов XX века. Я рад, что хорошо выучил этот урок.
Настолько хорошо, что даже написал антропологическую книгу «Нейвен» (Bateson, 1936) в ортодоксальном антителеологическом духе. Однако следование жестким предпосылкам в результате продемонстрировало их неадекватность. Стало ясно, что при таких предпосылках культура не смогла бы стать стабильной и вошла бы в процесс нарастающих изменений вплоть до своего разрушения. Это нарастание я назвал схизмогенез (schismogenesis) и выделил две основные формы, которые он может принимать, однако в 1936 году я не смог увидеть подлинных причин, по которым культуры живут так долго [не понял, что они могут включать в себя механизмы самокоррекции,