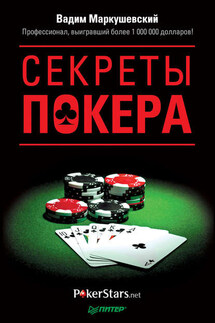Анимация и мультимедиа между традициями и инновациями. Материалы V Международной научно-практической конференции «Анимация как феномен культуры». 7-8 октября 2009 года, Москва - страница 34
4. Производится окончательный монтаж фильма.
Нельзя не заметить, что в эпицентре поисков Хинтона оказывается тот же элемент киновыразительности, что и во всех видах анимации (прежде всего, рисованной и кукольной) – движение и его фазы. То, что режиссер производит послесъемочную обработку запечатленных пластических действий и их монтаж на компьютере, мало что меняет в сути идей этого талантливого кинорежиссера, на первый взгляд, не удовлетворенного возможностями танца вообще и состоянием современной хореографии в целом. И действительно, у анимации больше возможностей в показе любых танцев: ведь человек в силу своих физических ограничений танцует, несмотря на все старания балетмейстеров, только так, как ему позволяет его тело, в то время как в анимационном кино по воле режиссеров и художников плясать как угодно может что угодно, не говоря уже о персонажах-людях. В творческой личности Дэвида Хинтона, похоже, кинорежиссер возобладал над хореографом. И не нам задаваться вопросом, «хорошо» это или «плохо». Ведь очевидно: фильмы британского режиссера – лучшее, что есть в кинотанце, потому что все остальное в нем явно маргинального характера и с точки зрения хореографии, и кино, и театра.
Главный же вопрос по отношению к методу послесъемочной обработки и трансформации реального внутрикадрового движения связан с «пограничным» статусом феномена кинотанца: какой вид искусства обогащает это новое движение в арт-хаусном кино?
Киноискусство в целом? – Проблематично, потому что даже в лучших работах кинотанца очень слабое киноповествование.
Анимационное кино конкретно? – Вряд ли, потому что кинотанцу не хватает последовательности по переводу человека-исполнителя в «предмет», в «вещь-куклу» из-за преобладания условности театральной (а не изобразительной как нормативной для анимации) природы.
Но что точно кинотанец не в состоянии обогатить, так это искусство хореографии.
Иногда и не танец вообще, как в фильме «Побережье жизни», в котором движения представляют собой даже не пантомимические, а бытовые жесты какого-то скетча без слов.
Все, что показывается на экране под эгидой кинотанца, вписывается в стратегию постмодернистской концепции хореографии. Поэтому сегодня не любая постановка даже на крупнейших сценических площадках мира может называться «современным балетом». Здесь имеются в виду различия в творчестве таких, к примеру, великих балетмейстеров современности, как Морис Бежар и Джон Нормайер, с одной стороны, и скандально знаменитого Мате Эка, который взошел на балетный Олимп своей постановкой «Лебединого озера» Чайковского, с другой. М. Эк – наиболее известный представитель постмодернистского балета. Суть «постмодернистского» фактора заключается в низведении символического характера танцевального движения, к бытовому жесту, в котором он обретает свойство знака-икона, указывая на бытовые или физиологические действия человека. По этому принципу дискредитировалась «высокая» стилистика классического балета, когда, к примеру, движения в знаменитом «Танце маленьких лебедей» строились на имитации пластики, присущей акту дефекации.
В.Бехтерев относил жесты к сфере «символических рефлексов». «Под названием символических рефлексов мы понимаем те внешние проявления организма, которыми как символом определяются те или иные внешние предметы, отношения между ними или же взаимные отношения своего организма и окружающего мира. К этому порядку движений относятся речь, жесты и выразительные или пантомимические движения»