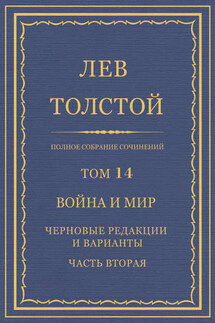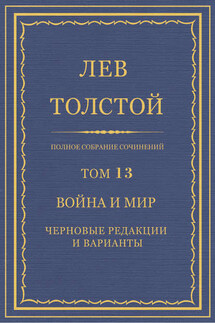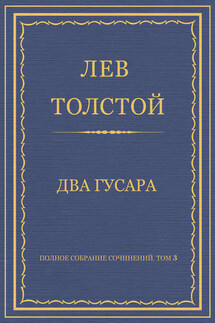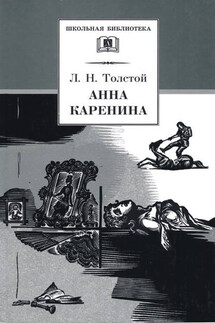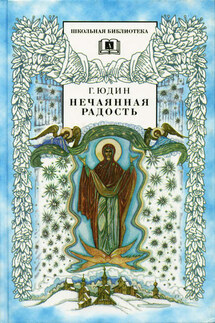Анна Каренина. Том 1. Части 1-4 - страница 6
Только в начале 1875 года, после почти двухлетнего труда, Толстой напечатал в журнале «Русский вестник» две первые части некогда столь стремительно начатого романа. Остальные части (всего в «Анне Карениной» их восемь) выходили до лета 1877 года по мере их окончания. Последнюю часть после конфликта с редакцией «Русского вестника» писатель выпустил отдельной брошюрой. Все это время действие романа не только не оставалось в прошлом, там, откуда Толстой начинал свое движение, но шло вперед одновременно с эпохой. Новую книгу от начала до конца пронизывали живые «токи современности». Самые злободневные вопросы хозяйственной, общественной, научной, культурной жизни страны – все, что занимает людей сегодня и сейчас, – присутствовали в судьбах героев, неотделимые от их семейных радостей и невзгод. События общегосударственного масштаба тоже немедленно отражались в художественных картинах романа. Так, сверстник и давний приятель Вронского, генерал Серпуховской, приезжал в Петербург, сделав блестящую карьеру во время присоединения к России новых областей Средней Азии (он напоминал знаменитого полководца тех лет М. Д. Скобелева). В последней части «Анны Карениной» исключительно большую роль начинала играть тема близкой войны на Балканах и добровольческого движения 1876 года в защиту братьев-славян от османского гнета. Когда Толстой начинал свой роман, он, естественно, не мог предвидеть, что полная душевная опустошенность приведет Алексея Вронского после самоубийства героини в ряды русских добровольцев, уезжающих воевать за освобождение сербов.
На протяжении четырех лет выросло огромное произведение: сложное, многообразное, не похожее ни на одно другое в русской литературе. Что же осталось в нем от Пушкина кроме первоначально загоревшейся творческой искры? Осталось главное: поэзия. История русского классического романа открывалась «Евгением Онегиным» – романом в стихах. Теперь поэтическим романом в прозе она приближалась к своему завершению. Именно поэзия определила многолетний ровный и свободный «ход» произведения Толстого, сообщила многим и многим описаниям художника незнакомую прежде кристальную ясность и чистоту. Он создавал книгу о русском разладе, но как писатель принадлежал на ее страницах не только смутной России.
Дух русской поэзии, пушкинский дух решительно преобразил все и вся в его повествовательном искусстве. Мировая слава Толстого не в последнюю очередь связана с потрясающей скульптурностью, рельефностью запечатленных художником образов бытия (его не случайно часто сравнивали с Микеланджело – великим итальянским живописцем и ваятелем, мастером создания объемных фигур и титанических по размаху композиций). На страницах «Анны Карениной» это свойство не ушло совсем, но обогатилось неземным, вертикальным видением мира. Осязаемое, конкрентное стало вдруг символически многозначным. Все, что прежде умел писатель, решительно преумножилось, войдя в целебное русло традиции. Творческие возможности Толстого достигли своей вершины.
Уже современники, по словам H. Н. Страхова, изумлялись: «Можно же так хорошо писать!» Нигде у Толстого не было (и, пожалуй, больше не будет) столь отточенной, неповторимо свежей метафорической речи, каждый раз как будто разрывающей завесу тайны над тем, о чем рассказывал художник. «Анна шла, – говорилось в романе, – опустив голову и играя кистями башлыка. Лицо ее блестело ярким блеском; но блеск этот был не веселый – он напоминал страшный блеск пожара среди темной ночи». А вот переживания Константина Левина, который приехал в Москву делать предложение своей любимой девушке Кити Щербацкой и внезапно увидел ее на катке среди многих людей: «Ничего, казалось, не было особенного ни в ее одежде, ни в ее позе; но для Левина так же легко было узнать ее в этой толпе, как розан в крапиве. Все освещалось ею. Она была улыбка, озарявшая все вокруг. <…> Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце, но он видел ее, как солнце, и не глядя».