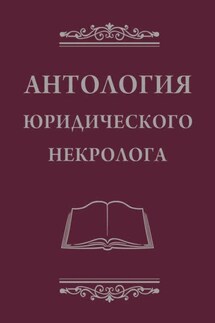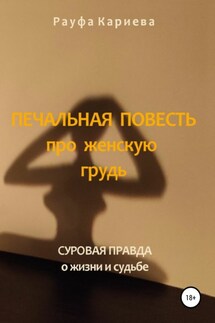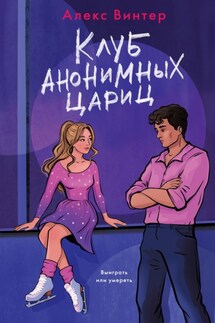Антология юридического некролога - страница 2
Есть и еще один редко отмечаемый ракурс некролога – он иногда (у очень прозорливых, осторожных и, как правило, известных государственных и общественных деятелей) выступает «стопором» неблаговидных, несправедливых поступков. Опасаясь отрицательного общественного резонанса и возможного публичного упоминания об этом факте после смерти, некоторые должностные лица воздерживаются от такого рода деяний[5]. Иными словами, есть момент истины в тезисе – «каждый старается для своего некролога, как его понимает».
Междисциплинарные танатологические исследования, касаясь «опыта смерти», упускают из поля зрения профилактический ресурс некролога.
Суммируя вышеизложенное, нельзя не отметить, что воспитание юристов нового поколения немыслимо без освоения ими юридического богатства прошлого, ушедшего от нас носителя самобытного правового интеллекта. Надо помнить, что бережное отношение к чужой смерти, к памяти о покойных юристах – одно из неотъемлемых слагаемых профессионального правового сознания. Не случайно ведь говорят, что сложное взаимодействие мира мертвых и мира живых составляет единое духовное поле. «Для того чтобы судить о действительной важности человека, – писал П. Буаст, – следует предположить, что он умер, и вообразить, какую пустоту оставил бы он после себя: немногие выдержали бы такое испытание».
Одно из современных философских направлений исходит из того, что непостижимость смерти есть этическая, а не гносеологическая проблема. «Смерть, – отмечает А.А. Слепокуров, – это не знание, а философская проблема, и в качестве философской проблемы смерть не разрешима. … Непостижимость смерти открывает человека как этического субъекта, и если он отказывается от этой непостижимости в пользу какого-то знания, тогда он теряет свои нравственные свойства быть человеком»[6]. На с. 9 исследователь продолжает: «Неведение смертного часа и неведение посмертного состояния способствуют формированию чистого этического мотива поступка, исходящего из принципов истинного человеколюбия и сострадания». Такой подход в гуманитарной культуре имеет право на существование, но он не должен распространяться на все феномены, прямо либо косвенно связанные со смертью.
Некрологи – всегда знание, синтезирующее в себе как научную, так и вненаучную (обыденно-личностную) информацию. В этом особая ценность содержащегося в некрологах знания. И оно обладает значительной степенью истинности.
Конечно, содержание, форма, тональность, лексика некролога жестко ограничены своеобразными этическими требованиями. Древний римский принцип “De mortuls nil misi bene” (о мертвых ничего, кроме хорошего – лат.) считается незыблемым моральным постулатом. Правда, некоторые знатоки крылатых выражений добавляют к поговорке: «…кроме правды». Здесь важно «перекинуть мостик» к «участию» этого выражения к появлению иного классического латинского афоризма: “Memento vivere” – «Помни о жизни!», или: «Помни, что нужно жить!».
«Так или иначе, прощание с человеком дисциплинирует нашу риторику. Высказывать упреки по адресу покойного не вполне справедливо по той простой причине, что он уже не может вам ни ответить, ни оправдаться», – пишет С.М. Казначеев и задает далее отнюдь не риторический вопрос: «Но как же быть, если из жизни уходит тот, кто натворил немало очевидно недобрых дел, пользовался незаслуженной славой, стяжал себе награды и блага, пользуясь своим положением?»