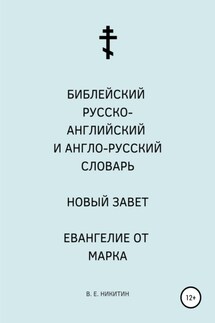Апостасия. Отступничество - страница 32
– Поверьте, господин Шифф, в моем лице вы видите абсолютного сторонника еврейского равноправия. Русское правительство много делает для постепенного смягчения этой острой проблемы. Но равноправия невозможно достичь в одночасье. Пока стомиллионное русское крестьянство не имеет равных прав, невозможно говорить о равноправии для евреев…
– Господин Витте, еврейству дела нет до положения ваших крестьян. Мы считаем несостоятельной всякую политику постепенного устранения тяготеющих над еврейским народом ограничений и ждем немедленного уравнения в гражданских и религиозных правах как дела чести и справедливости.
– Но… примите во внимание, господин Шифф, в стране, где нормы нравственности и само оправдание самодержавной власти основываются на христианстве, нельзя признать равноправной религию, отрицающую Христа и имеющую черты расовой исключительности…
– Свобода совести, господин Витте, есть одно из фундаментальных прав человека, и соблюдение этого права является обязательным для любой страны, желающей оставаться в семье цивилизованных государств. Черта оседлости, до сих пор сохраняющаяся в России, – это позор не только для вашей страны, это позор и унижение для всего мирового еврейства, и мы сделаем все, что в наших силах (а в наших силах многое), чтобы освободить вашу страну и самих себя от этого позора.
– Но черта оседлости не распространяется на сорок процентов евреев, и более того, она легко переходима для всех, кто…
– Если бы черта оседлости касалась и одной десятой процента, мы точно так же вступились бы и за одну десятую. Мы не торгуем нашими людьми. Нам дорог каждый еврей, господин Витте, и мы будем бороться за достойную жизнь для каждого.
– Эта пресловутая черта не мешает ни финансовой, ни культурной, ни экономической деятельности евреев, – уже с некоторым раздражением сказал Витте. – Вы же не будете отрицать, что, несмотря на ограничения, в России в руках еврейства оказались практически все банки, вся печать…
Теряя терпение, Шифф резко остановил русского премьера.
– Господин Витте, я не пришел с вами спорить. Прошу вас передать вашему правительству: если царь не даст еврейскому народу те свободы, на которые он имеет право, то революция сможет установить республику, через которую те свободы будут достигнуты.
– Вы угрожаете нам революцией? – растерянно спросил Сергей Юльевич, и его бесстрастное лицо дипломата залилось краской негодования.
– Мы вас предупреждаем.
Это заявление финансового магната прозвучало настолько императивно жестко и откровенно угрожающе, что, пожалуй, впервые в жизни Сергей Юльевич не нашелся что ответить и только развел руками.
Нисколько не смущенный Шифф с достоинством откланялся, и делегация удалилась. А у Сергея Юльевича после этого разговора еще долго оставалось в душе нечто вроде отрыжки, как после дурно сваренного обеда, и каждый раз, когда пред ним вдруг спонтанно всплывало красивое, благообразное, со смеющимися глазами лицо Шиффа, он невольно морщился, как от зубной боли.
Мир с Японией оказалось заключить гораздо проще, чем с финансовыми олигархами Америки. Никто не ожидал, что японцы, претендовавшие и на весь Сахалин и Курилы, и на возмещение всех военных расходов Японии, и на выдачу русских судов, укрывшихся в нейтральных водах, и на то, чтобы не держать России флот на Дальнем Востоке, и на много чего еще, вдруг неожиданно для всех приняли русские условия без единой поправки. Это быстрое согласие, несовместимое, казалось бы, с недавними победоносными действиями японской армии, означало только одно: маленькая Япония, несмотря на все финансовые вливания Америки и Англии, конечно же долго не могла тягаться с гигантом-Россией, выдохлась, и только заключение мира спасло ее от финального поражения. Условия мира оказались столь малопредпочтительными для Японии, что глава японской делегации Комура вынужден был уйти в отставку, а в самой Японии после подписания договора разразилась буря негодования и протестов, даже траурные флаги вывешивали. Территориально мы уступили только южную часть Сахалина, и эта царская уступка была скорее подарком не японцам, а Рузвельту, страстно желавшему хоть чем-нибудь ублажить японцев.