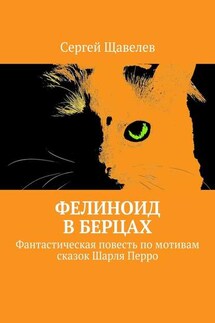Автобиография большевизма: между спасением и падением - страница 31
Сложно было представить что-то более далекое от ценностей большевиков. Сама мысль о том, чтобы отличаться от своих товарищей, повергала их в ужас[127]. Говоря об отчужденности, личной автономии, сочинитель коммунистической автобиографии обычно писал только о дореволюционном периоде. Но переходя к послеоктябрьскому периоду, коммунист с энтузиазмом отдавал свое сокровенное «я» партии. Автономное «я» было «я» несовершенным, таким, какое было необходимо преодолеть. Тот, кто сохранил часть себя для себя, не вписывался в новую жизнь, считался «отщепенцем». Александр Богданов призывал к товарищескому сотрудничеству, где процветало бы «коллективное обсуждение, коллективное решение и затем коллективное исполнение того, что принято»[128]. «Товарищество» в его определении – это «центр мироотношения, это высшая точка зрения, с которой оцениваются формы сознания, а природа перестает быть безразличной и враждебной средой, становится полем общественного действия – опоры гордого сознания силы (без оптимизма) опять определяемого товариществом»[129]. «Когда я говорю о товариществе, – подчеркивал в том же духе выпускник Ленинградского комвуза Большаков, – я имею ввиду, разумеется, не беспринципное обывательское товарищество за кружкой пива, а ту высоко принципиальную, не терпящую никаких отклонений от генеральной линии атмосферы, которая роднила нас и делала своими»[130].
В своем заявлении в партию от 3 января 1924 года студент второго курса Ленинградского государственного университета Виктор Николаев-Лопатников сожалел о потере чувства слитности с партией, присущего ему в годы Гражданской войны: «В бытность свою в рядах Красной армии я мог, руководствуясь указаниями и советами товарищей-комиссаров, выполнить ту или другую работу на культурном фронте, но после демобилизации я сделался мелкой единицей, которая хочет что-то сделать, но не может». Бездна раскрылась между Лопатниковым и пролетарским коллективом вследствие «отсутствия руководителя и естественного недоверия к моей работе со стороны партийных товарищей». «Руководителем моей работы может быть только коллектив РКП. Кроме того, знал программу партии коммунистов, которая соответствует моим политическим взглядам, я уже с 1922 года, хотел вступить в ее ряды». Подчеркивая, что он ничто без партии, кандидат в члены партии обязывался «подчиняться всем решениям и постановлениям партийных органов»[131].
Если история была большевистским эпосом, то автобиография являлась его проекцией на конкретную жизнь. В то время как обещание всеобщего освобождения пропитывало каждый автобиографический рассказ, индивидуальное обращение в большевика предвосхищало всеобщее освобождение. Такие параллели объясняют сходство между завершением всемирной истории и кульминацией большевистских автобиографий. Григорий Осипович Винокур объяснял в 1927 году, что отдельная жизнь должна быть перестроена как жизнь, посвященная революции: «История превращается в контекст, который формирует личную жизнь человека. Переживая историческое событие, личность присваивает его себе, делает частью собственной биографии… становясь предметом переживания, исторический факт получает биографический смысл. <…> Пережить что-либо – значит сделать соответствующее явление событием в своей личной жизни»[132].
Белокостеров отдавал себе отчет в том, что принятие в партию зависит от способности представить свою автобиографию как отклик на большевистский метанарратив
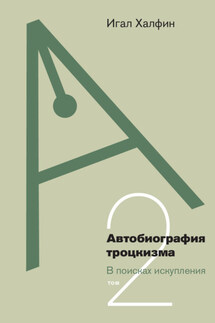

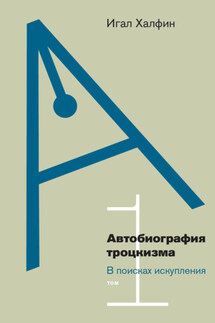

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)