Автобиография троцкизма. В поисках искупления. Том 2 - страница 52
Чем-то это заявление напоминает покаяния кутузовской когорты, рассмотренные в прошлой главе. Мы и здесь находим отсылку к личному обращению: вчера я был оппозиционер, сегодня солидаризируюсь с ЦК. Но есть и существенные различия. В приведенном программном документе Радек и Смилга меньше говорили о себе, больше о политической ситуации. Соответственно, текст тяготел не столько к эго-документу, сколько к жанру политического заявления: авторы ставили себя в пример и обращались к партийным массам. Сквозь хаотичность и демократичность оппозиционной сети можно распознать отношение к иерархии – как в отрицательном смысле (призыв низвергнуть Троцкого с пьедестала), так и в положительном (призыв следовать примеру вождей). Оставшиеся с сомнениями оппозиционеры «должны понять, что остающиеся еще разногласия не оправдывают обособленного организационного существования, и тем более борьбы с партией. Только вместе с партией, на основе ленинской политики, мы можем успешно бороться за торжество мировой революции и коммунизма»179.
Многие в партийной верхушке отнеслись к заявлению скептически: им не хватило признания ошибок в период последней дискуссии. Но вот Е. М. Ярославский был мягче: «Радек и Преображенский были сегодня у меня и заявили, что они не могут подписать эти новые поправки, – писал он 29 июня 1929 года Г. К. Орджоникидзе. – Таким образом, дело с ними затягивается. Я думаю, что зря. Нет надобности требовать от них, чтобы признали правильной политику партии и ЦК в период 1925–1927 гг. Ведь ошибки у нас были немалые»180. 4 июля 1929 года Политбюро решило отложить принятие решения по заявлению бывших оппозиционеров. Вернувшись к вопросу через полгода, 10 января 1930 года, партколлегия ЦКК ВКП(б) постановила, что ввиду того, что Е. А. Преображенский «признал полную свою солидарность с линией и всеми решениями партии, в том числе и с решениями партии об оппозиции, признал свою ошибку и вред, причиненный партии его фракционной работой, осудил взгляды и деятельность троцкистской оппозиции, восстановить его в рядах ВКП(б)», указав перерыв его пребывания в партии с 13 октября 1927 по 10 января 1930 года. К. Б. Радек также был восстановлен в рядах большевистской партии181.
В. М. Молотов несколько усложнил процедуру: «Необходимо о каждом отдельное постановление (нужно форму соблюдать, когда дело касается решений партийного съезда, да и по существу отдельное постановление лучше)»182. Постановление партколлегии ЦКК от 20 июля 1929 года «О заявлениях бывших членов ВКП(б), отошедших от оппозиции» оговаривало следующее: «а) Считать необходимым, чтобы все товарищи, приславшие телеграфное извещение ЦКК об отходе от оппозиции, подтверждали это индивидуальными письменными заявлениями на имя ЦКК; б) Сообщать каждому товарищу, сделавшему такое заявление, чтобы он письменно информировал ЦКК, в чем именно заключалась его фракционная деятельность (какую функцию и когда он выполнял во фракционной организации), чтобы ЦКК могла принять во внимание эти сведения при решении вопроса о возвращении в партию». В ноябре 1929 года ЦКК потребовала в дополнение к этому, чтобы «в данных по фракционной деятельности» бывший оппозиционер поименно указывал всех связанных с ним участников оппозиции183.
Преображенский, Смилга и Радек считались непреклонными идеологами оппозиции, и их капитуляция являлась серьезной победой Политбюро. Имя Радека сразу стало символом унизительной капитуляции, вероломного удара в спину Троцкого. Ярко обрисовывал политические затруднения Сталина член Петроградского комитета большевистской партии и агитатор среди кронштадтских матросов, а после революции выпускник Института красной профессуры и ректор Ленинградского лесного института Федор Николаевич Дингельштедт. «Сумеет ему в этом помочь ренегат Радек?» – спрашивал он иронически из своего места ссылки в селе Лебяжьем Рубцовского района Сибирского края. Виктор Серж вспоминал: «Федор Дингельштедт в свои двадцать лет <…> был большевистским агитатором, в 1917 они подняли Балтийский флот. Он руководил Лесным институтом и <…> у нас он представлял крайне левое крыло, близкое к группе Сапронова, который считал перерождение режима завершившимся. Лицо Дингельштедта, поразительно и вдохновенно некрасивое, выражало непоколебимое упорство. „Этого, – думал я, – никогда не сломить“. Я не ошибся»
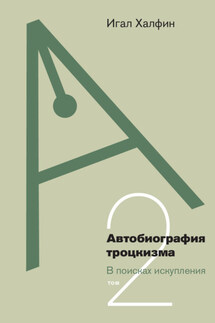

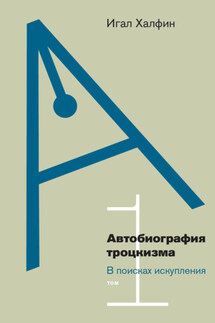

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



