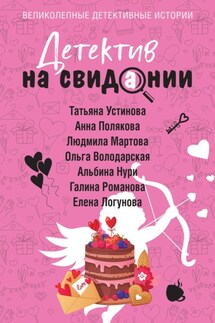Авторитет права. Эссе о праве и морали - страница 18
Есть некий минимум, который должен исключать приказ, чтобы быть приказом. Он должен исключать по крайней мере факторы, определяющие текущие желания получателя. Зачастую приказы исключают намного больше, чем только это, но никогда не исключают меньше. В надлежащих обстоятельствах невыполнение приказа можно оправдать тем, что приказ был отдан не применительно к данному случаю. Можно утверждать, что никто не предполагал необходимости слушаться приказа, даже если нашлась сильная моральная причина этого не делать или если его выполнение серьезно повредит интересам получателя либо будет незаконным[31]. Когда такие аргументы равносильны оправданию и приводят к тому, что агент не выполняет приказ, нельзя сказать, что он его выполнил, но он и не нарушил его. Не предполагалось, что он должен следовать приказу в данных обстоятельствах. Однако наличие у агента каких-либо желаний, несовместимых с выполнением приказа, сколь бы сильны они ни были, никогда его не оправдывает. Приказы многих родителей приближаются к минимальному исключению, так как их целью является лишь исключить рассмотрение сиюминутных желаний ребенка, чтобы избежать споров о том, что лучше, учитывая его сильное желание совершить или не совершить то или иное действие. Но родительские приказы часто исключают рассмотрение собственных интересов ребенка и могут исключать многое другое сверх этого.
Это объясняет то, почему более самонадеянно приказывать, чем просить. Если вы просите, вы подчиняетесь решению адресата, вынесенному по итогам взвешивания причин, одновременно пытаясь добавить причину на одну чашу этих весов. Но тот, кто командует, не просто пытается изменить баланс, добавляя причину для действия. Он также пытается создать ситуацию, в которой адресат неправильно поступит, если будет действовать, взвесив все причины. Он подменяет решение адресата по итогам взвешивания причин своим авторитетом.
Сходные аргументы опровергают и второе возражение, отрицающее, что указания авторитета всегда являются причинами для действия. Есть ощущение, что если кто-то признает законность авторитета, то он обязан слепо ему подчиняться. Можно очень остерегаться превышения полномочий и учитывать наличие неисключаемых факторов. Но, помимо этих возможностей, надлежит подчиняться авторитету вне зависимости от собственного взгляда на существо вопроса (то есть вслепую). Можно сформировать свой взгляд на обстоятельства дела, но пока вы подчиняетесь авторитету, в этом академическом упражнении нет практического смысла. Мы можем пойти дальше и сказать, что иногда сами причины, которые оправдывают установление авторитета, также оправдывают и слепое ему подчинение в более строгом смысле – то есть подчинение ему даже без попытки сформировать собственное суждение об обстоятельствах дела. Так происходит, например, с некоторыми правилами дорожного движения. Нам всем известны преимущества регулирования наших действий светофором по сравнению с совершением действий на основе собственного суждения. Но мы обычно забываем, что значительная часть преимуществ связана с тем, что мы отказываемся от попыток сформировать собственное суждение. Когда я подъезжаю к красному сигналу светофора, я останавливаюсь, не пытаясь разобраться, существует ли, в данных обстоятельствах, какая-либо причина для остановки. С нашей выигрышной точки зрения, мы изобрели пример, когда вопрос не возникает, потому что ответ (нет причин) очевиден. Но у человека в нашем примере вопрос все же возник; ему нужно выяснить, действительно ли нет причин для остановки. А если ему нужно это выяснить в данном случае, то нужно выяснять и во многих других случаях. Для нас абсурдно слышать, как он говорит: «Я обязан подчиняться авторитету независимо от обстоятельств конкретного дела», ведь мы заранее знаем, каковы эти обстоятельства, и забываем, что ему приходится их выяснять, и не только сейчас, но и во многих других случаях. Лишь когда предотвращение этого оправданно, оправданно и признание соответствующего авторитета, даже если периодически мы из-за этого нелепо выглядим в глазах Всевышнего.