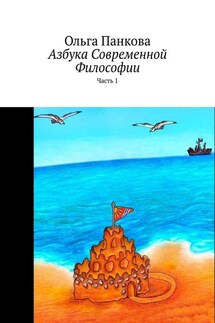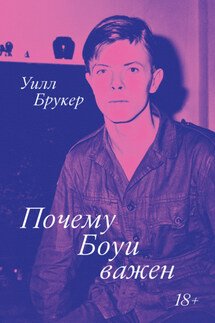Азбука современной философии. Часть 1 - страница 55
Пример №2. Просиживая в интернете дни и ночи напролёт, проводя в нём значительный промежуток своей жизни, человек вместе с тем явственно осознаёт, что интернет ему не нужен, что от него исходит вред, что время, проведённое в интернете, можно смело вычеркнуть из жизни. «Что это ещё за новости? – недоумевает человек. – Что за глупые мысли поселились в моей голове? Откуда они взялись? Интернет – мировой коммуникатор, им пользуется вся планета. Все живы и довольны, а значит, и со мной всё будет хорошо!» Но, несмотря на все доводы, уговоры и убеждения, внутреннее неприятие интернета в человеке только усиливается, причём усиливается молча, без каких-либо объяснений. «Да что за бред? – внутренне возмущается человек. – Значит, всем можно, а мне нельзя? Почему так?» Пытаясь избавиться от своего растущего внутреннего неприятия, точнее, пытаясь победить его при помощи разума, человек начинает искать в интернете ответ на вопрос, исходит ли от интернета какой-либо вред. В итоге критический обзор электронных СМИ, изучение психологических сайтов, чтение отзывов на форумах открывает для человека не просто какой-то единичный и разовый вред, исходящий от интернета, а целый букет вредоносных интернет-воздействий. «Вот это да, – поражается человек, – тут всё даже хуже, чем мне казалось поначалу». Понимая, что уменьшить вредоносные влияния интернета можно лишь сокращением времени пребывания в нём, человек именно так и поступает. При этом он с удовлетворением отмечает, что чувство внутреннего стойкого неприятия стало ослабевать, уменьшаться, отпускать – оно, это чувство, словно бы стало хвалить человека за проявленную самодисциплину, хоть и не сообщая ему об этом прямо.
Пример №3. Желая посмотреть широко разрекламированный кинофильм – картину, заявленную в мировом прокате как самый романтический фильм года, номинированную на множество кинопремий, с участием самого популярного актёрского состава – человек направляется в ближайший кинотеатр. Расположившись в уютном кресле тёмного кинозала, человек приготавливается к сентиментальному и душещипательному зрелищу – и, разумеется, он его получает. Под звуки нежной мелодии, льющейся с экрана (мелодии, которую музыкальная общественность впоследствии признает лучшим саундтреком десятилетия), на фоне упоительных и только что покорённых горных вершин (десять призов за лучшие визуальные эффекты плюс пять призов за уникальные каскадёрские съёмки), герой и героиня высоким литературным слогом объясняются друг другу в вечной любви (звучит главный диалог фильма, над которым поработало не менее десятка сценаристов). В процессе этого признания выясняется, что в результате стечения непреодолимых обстоятельств герой и героиня не могут быть вместе, однако они всё-таки решают бороться с обстоятельствами и защищать свою любовь до конца, фактически до гробовой доски. Поклявшись друг другу в пожизненной верности, и скрепив клятву… нет, не кровью – поцелуем, влюблённая пара начинает спуск с горы. Зрители в кинозале, которые уже пять раз успели порадоваться за главных героев, десять раз им посочувствовать, пятнадцать раз обругать непреодолимые обстоятельства, а заодно и сценариста, их придумавшего, двадцать раз всплакнуть тайно и двадцать пять – явно, напряжённо следят за финалом. Финал страшен и трагичен: героиня, оступившись на камне, падает в ущелье и разбивается насмерть. Герой, не помня себя от горя и тоски, уже заносит ногу над пропастью, стремясь последовать за своей любимой, но в последнюю секунду его останавливает какой-то неясный шорох. Оборачиваясь на звук, герой замечает ползущую меж камней змею, затем непроизвольно поднимает взгляд выше и видит выходящее из-за соседнего горного массива солнце, которое ослепительным блеском и благотворным теплом символизирует собой торжество вечной жизни. Финальные титры, занавес. Кинозал, не скрывая, рыдает в полный голос. Выходя на улицу, человек волей-неволей вслушивается в обрывки впечатлений о фильме, которыми делятся зрители, вглядывается в их лица и вдруг начинает отчётливо осознавать, что его соседи по кинозалу – абсолютно нормальные люди, а вот с ним явно что-то не так. Зрители искренне переживают, делятся эмоциями, у многих женщин заметны припухшие веки, мокрые глаза и следы от слёз на щеках, и даже мужские лица выражают этакую суровую сдержанность, что, конечно же, говорит о бурных, но тщательно скрываемых эмоциях. И только у него внутри творится что-то несусветное: вместо искренних переживаний за трагическую судьбу киногероев – жёсткая критика их нелепых похождений; вместо сочувствия – ирония; вместо восхищения – сарказм; вместо слёз – издевательское подхихикивание; и всё это внутреннее состояние интерпретируется человеком как категорическое неприятие фальши, которую внутренний голос сумел в фильме где-то и как-то усмотреть. То есть разум и чувства человека верят в искренность происходящего на экране, а внутренний голос – нисколько. Спустя какое-то время, неделю или месяц, этот человек включает телевизор и случайно попадает на трансляцию детского вокального конкурса: на сцену как раз выходит следующий конкурсант. Хотя слово «конкурсант» к данному человеческому созданию можно применить лишь с очень большой натяжкой: поющий на сцене ребёнок мало того, что крошечный, так ещё и весь какой-то нахохленный, несуразный, словно измученный непосильной ношей, которую на него взвалили. Видно, что его пугает и сцена, и жюри конкурса, и ведущие, и собственные родители, наблюдающие за ним из-за кулис. Но его послали петь, и деваться ему некуда: он фальшивит, не попадает в ноты, то шепчет, то кричит, то забывает слова, то вспоминает их, но дисциплинированно продолжает делать то, что ему велели. Причём этот ребёнок даже не поёт, потому что вряд ли можно назвать пением еле слышный писк, подобный тому, какой издаёт в погребе мышь, или жалобный стрёкот, похожий на стрёкот испуганного ночного сверчка, или напевное бормотание, которое мог бы издавать не человеческий детёныш, а только что вылупившийся птенец попугая. Но больше всего человека поражает не качество данного исполнения, а выбор музыкальной композиции. Стоя на конкурсной сцене, ребёнок бормочет не что-то популярное, всеми узнаваемое и лёгкое в исполнении – нет, он пищит «Ave Maria»! Христианскую музыкальную молитву! И вот, при одном только взгляде на всё это, внутренний голос человека разражается бурными и непроизвольными слезами, которые, переполняя внутреннее существо, быстро выплёскиваются наружу. Возникает полное ощущение того, что внутри прорвало плотину: в глубине человека происходит такая буря страстей, такой взрыв эмоций, такой душевный катарсис, который трудно выразить словами. Человек, сквозь пелену собственных слёз вглядываясь в лицо несуразного ребёнка, поющего «Ave Maria», в состоянии лишь бессвязно вопрошать: «Что это? Зачем? Как?» При этом слёзы из человеческих глаз всё льются и льются, а облегчения ему всё нет и нет. А когда, длительное время спустя, успокоение всё же наступает, человек с удивлением отмечает, что, оказывается, он не только умеет отличать правду от лжи, а настоящее – от фальшивого, но и видит вещи насквозь, понимает их истинную суть.