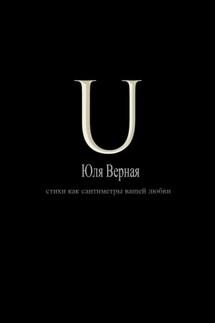Бабушкин внук и его братья - страница 21
– Теперь уже ничуть, – сказал я честно.
Потому что думал о Насте. Правда, и о Вальдштейне я думал, причем все время, но эти мысли были на втором плане. Опасение скребло мне душу, но не сильно.
Вальдштейн, конечно, тоже не забыл вчерашнее. На первом уроке он то и дело поглядывал на меня. Быстро и словно из-за кустов. И так сумрачно, что Настя сказала:
– Почему это Вячик глядит на тебя, как кобра?
– Кто глядит?
–Вальдштейн. Вячик…
– Что за имя!
– Вячеслав.
– Вячеслав – это Славка.
– У кого как. Он – Вячик. Вячик-калачик, так его в первом классе дразнили. Да и потом…
Бедный Вячик, бедный Вячик,
Почему не ешь калачик?
Тише, Вяченька, не плачь,
Дам тебе большой калач…
Я поморщился – повеяло чем-то знакомым. Но я сказал хмуро:
– Глиста он негодная, а не калачик.
– А что случилось-то?
Я не удержался и шепотом рассказал. И добавил:
– Тоже мне, мафиози недорезанный…
– Дурачок он, а не мафиози, – грустно отозвалась Настя. – Никаких дружков у него нет. Ни уголовных, ни вообще… Просто хотел новичку свою силу показать, потому что в классе самый затюканный. Мальчишки раньше знаешь как его доводили…
«Знаю», – чуть не сказал я. И сделалось гадко на душе.
– …Пока Дора Петровна их совесть не расшевелила. Она это умеет…
– Я не хотел ему нос разбивать. Он сам им о сосну треснулся. Я просто его по уху стукнул. Если честно говорить, то с перепугу…
– Ну, ничего. Может, дома не заметили, что нос распухший…
– А если заметили?
– Тогда хуже. Его в такой строгости держат. Как двойка или запись в дневнике, он боится домой идти… Да ты не переживай. Он же сам виноват.
«Я и не переживаю», – сказал я себе. И стал смотреть в другую от Вячика Вальдштейна сторону. В открытое окно. Там были тонкие сосны и безоблачное небо. И летнее тепло. Только тепло это сегодня пахло горьковатым дымом: за городом от сухости и жара начал гореть торф. От такого запаха слегка першило в горле.
Но все-таки я чувствовал радость. Нет, значит, за спиной Вальдштейна зловещих рэкетиров. И все будет хорошо.
Но дальше не было ничего хорошего.
На второй урок, на литературу, вместе с Дорой Петровной пришла завуч Клавдия Борисовна.
– Садитесь. Только без шума… А новичок пусть встанет снова… Где ты, Ивулгин?
«Ну, началось», – понял я с упавшим сердцем. Но встал спокойно.
– Вот я. Только не Ивулгин, а Иволгин.
– Хорошо. Не вижу разницы.
– А я вижу. Моя фамилия от слова «иволга». Есть такая лесная птица.
И завуч почуяла, что я готов к бою.
– Я уже поняла, что ты за птица… Скажи, почему ты в субботу, после физкультуры, избил своего одноклассника? Его мама говорит, он пришел домой весь в крови!
«Ага, значит, не физрук накапал, а мама заступилась. Это понятно. Небось, нагородил дома жуткую историю: иду, никого не трогаю, а тут новичок ка-ак налетит!.. Чего не сочинишь, если могут взгреть…»
– Я жду, Ивулгин… Иволгин!
А Дора Петровна молчала. И, по-моему, жалела меня. Видимо, она узнала про все только сейчас.
Настя вдруг сказала с места:
– Клавдия Борисовна, Вячик же сам виноват!
И, конечно, услышала в ответ, что Пшеницыну никто не спрашивает.
– А спрашиваю я… Иволгина. Кто дал ему право разводить здесь дедовщину? У нас не казарма, а школа!
«А в казарме, значит, можно?» – подумал я. И ответил, что вовсе не избивал Вальдштейна.
– Только дал один раз, а он носом о дерево… Вальдштейн, скажи! – Я оглянулся на него.
Вячик сидел так, что видно было только темя с белобрысыми прядками. И уши по сторонам. И показалось, что с лица на парту шмякнулась капля.