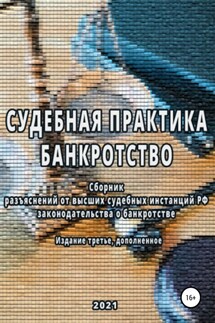Банкротство. Правовое регулирование. 2-е издание. Научно-практическое пособие - страница 62
Возникает вопрос: каким образом отмеченные основные различия гражданского, административного и уголовного судопроизводства проявляются в делах, связанных с банкротством?
Так, Г. Ф. Шершеневич писал, что «банкротство составляет преступное действие, совершенное несостоятельным должником, а потому оно предполагает несостоятельность. Однако не следует искать причинной связи между преступными действиями и несостоятельностью, необходимо только одновременное существование… Отсутствие несостоятельности исключает возможность банкротства»>160.
Другие считали, что «уголовное преследование нисколько не связано решением гражданского суда, один факт прекращения платежей с наличностью преступных признаков вполне достаточен для его возбуждения. Всякое преступление должно быть преследуемо немедленно по обнаружении его, независимо от гражданских его последствий. Так как объявление несостоятельности зависит от просьбы кредиторов, то уголовное преследование преступления, не относящегося к разряду частных, стояло бы в зависимости от воли потерпевших»>161; «предварительное обсуждение в порядке конкурсного производства вопроса о виновности должника в простом или злостном банкротстве, с одной стороны, совершенно излишне усложняет конкурсное производство, с другой – без всякого основания стесняет преследование должника в порядке уголовного производства»>162.
Возражая против этой точки зрения, Г. Ф. Шершеневич отмечал, что если предоставить уголовному суду решать вопрос о наличии банкротства независимо от гражданского суда, то возможно столкновение двух юрисдикций, когда лицо, относительно которого гражданский суд отверг наличие банкротства, будет осуждено уголовным судом как банкрот, и наоборот, лицо, признанное банкротом гражданским судом, будет освобождено от уголовного преследования, несмотря на обнаружившиеся признаки банкротства. Поэтому необходимо подчинить уголовное преследование предварительному объявлению лица банкротом со стороны гражданского суда. Кроме того, гражданский суд гораздо более компетентен в вопросах банкротства, нежели уголовный.
Интересно отметить также, что в западном законодательстве конца XIX – начала XX в. вопрос о свойстве несостоятельности и наличии в ней признаков банкротства составлял предмет уголовного процесса, независимо от гражданского процесса. Гражданский суд лишь сообщал в необходимых случаях о несостоятельности того или иного лица прокурору. В соответствии же с российским законодательством того периода возбуждение уголовного преследования за простое или злостное банкротство было поставлено в зависимость от предварительного признания соответствующего свойства несостоятельности гражданским судом.
В современном западном законодательстве понятия «несостоятельность» и «банкротство» довольно четко разводятся. Так, в США лицо, в отношении которого возбуждено гражданское судопроизводство по делу о несостоятельности, во время производства считается несостоятельным, а после судебного решения может быть признано банкротом со всеми вытекающими последствиями. По мнению ряда авторов, целесообразно было бы использовать в российском законодательстве американский вариант сочетания несостоятельности и банкротства>163.
Как решается этот вопрос в современном российском законодательстве? Сравнительный анализ ст. 10 Закона о банкротстве, ст. 14.12 КоАП РФ и ст. 196–197 УК РФ свидетельствует о следующем.