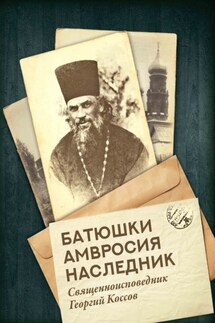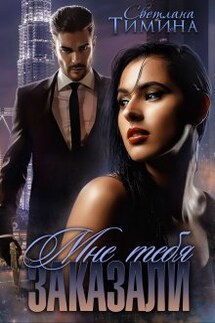Батюшки Амвросия наследник. Священноисповедник Георгий Коссов - страница 13
Вот уж и длинный летний день подходит к концу. Настало время мне уходить. Я тепло простился с гостеприимными хозяевами и вышел на улицу. Был уже вечер. Остывшее за день солнце спешило спрятаться за горизонт. Над городом стояла необычная чарующая вечерняя тишина. Я неторопливо пошел на автостанцию, думая о разных превратностях человеческой жизни. Шел и ясно чувствовал вокруг себя древний патриархальный дух, которым проникнуты были улицы этого небольшого старинного города. А в бескрайнем и бездонном небе уже появлялись и блестели звезды.
Незабываемое
Об Анне Николаевне Рязанцевой, духовной дочери отца Георгия Коссова, я узнал случайно. Как-то в один из дней, когда я просматривал в областной библиотеке подшивки старых «Епархиальных ведомостей», ко мне подошла Римма Афанасьевна Полунина и спросила: «Вы интересуетесь священником Коссовым?» – «А вы что, знаете что-либо о нем?» – в свою очередь спросил я и почувствовал, что какие-то новые и важные сведения о батюшке Георгии я от нее получу. «Да нет. Просто слышала о нем от своей знакомой. Она к его духовной дочери Анне Николаевне Рязанцевой часто в гости ходит. А недавно книгу дала мне почитать. Может, слышали о ней? Называется она "Светлый и отрадный уголок в душе России"». «Еще бы не слышал», – подумал я и про себя отметил, что мне крупно повезло.
Листать подшивки «Епархиальных ведомостей» после этого мне показалось делом утомительным и скучным, и я стал собираться домой. «А сколько же ей лет?» – поинтересовался я перед уходом. – «Девяносто пять было или скоро будет», – ответила она.
Адрес Рязанцевой Римма Афанасьевна не знала. Она назвала только улицу и примерно место, где находился ее дом. Дальнейшее установить было нетрудно. И вот в один из дней я отправился к ней. Жила Анна Николаевна на 2-й Курской совсем недалеко от моего дома. По Речному переулку я вышел к мебельной фабрике, затем повернул вправо и, пройдя несколько домов, свернул в один из дворов. И там, в самом конце его, увидел сиротливо отстоящий ото всех ветхий дом.
Я постучал в дверь сначала несильно, потом сильней. За дверью раздались неторопливые шаги, и, звякнув запором, на порог вышла благообразная старушка.
«Вы Анна Николаевна Рязанцева? – спросил я и, получив утвердительный ответ, продолжал: – Мне бы хотелось с вами о батюшке Георгии Коссове поговорить. Вы, говорят, его хорошо знали».
Несколько секунд она молча смотрела на меня, явно раздумывая, впустить или нет, а затем тихо сказала: «Ну входите». Мы прошли коридор и вошли в кухню, пахнущую сухими вениками и дымом. Я хотел было расположиться у стоящего около окна стола, но Анна Николаевна повела меня в зал. Там было просторно и прохладно. В углу висело много икон и чуть горела лампадка. Мы сели у окна почти под образами, и тут уж я получше ее рассмотрел. Была она небольшого роста, сухая и узкая в плечах. Глубокие рубцы морщин на ее прозрачно-восковом лице говорили не только о старости, но и о тяжкой жизни и усталости. Но вместе с тем в ее облике, движениях и разговоре присутствовала какая-то легкость и благородство. Я попросил ее рассказать о детстве, о том, как судьба привела к батюшке Георгию в Спас-Чекряк. И она начала свой рассказ.
«Родилась я в 1901 году в Болхове. Родители были мои сапожниками. Когда мне исполнилось 6 лет, умерла моя мать, а года через полтора или два скончался и отец, и стала я круглой сиротой. Кормить меня стало некому, и моя дальняя тетка Евдокия отвезла меня в Спас-Чекряковский приют. Так вот и попала я к отцу Георгию. В народе называли его батюшка Егор, а в приюте все без исключения – папаша.