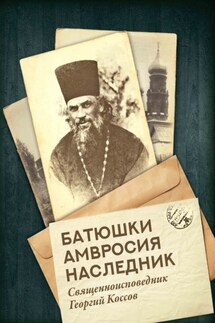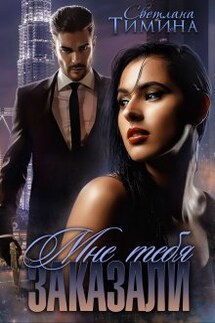Батюшки Амвросия наследник. Священноисповедник Георгий Коссов - страница 6
Здесь следует пояснить, что второклассная школа – это не двухгодичная, как могут подумать сейчас. В эту школу принимали уже грамотных детей и после пятилетнего срока обучения выдавали свидетельство учителя земских и сельских школ. Поэтому открытие такой школы в отдаленном и глухом краю было действительно делом необычным и дивным.
Незадолго до первой мировой войны в Спас-Чекряке побывал писатель – наш славный земляк Михаил Пришвин. День, когда он прибыл туда, был ясным и теплым. Приютские девочки-сиротки, одетые в красные сарафаны, сажали на старом кладбище яблони. Залюбовавшись большой плотиной у пруда, которую три года насыпал батюшка Егор с детьми, он вдруг услышал сзади себя шум. Оглянувшись назад, писатель увидел отца Георгия. Батюшка шел в церковь, а за ним следовала большая масса людей. Кого там только не было! В своем рассказе «Спас-Чекряк» М. Пришвин писал, что к отцу Георгию идут на совет не только крестьяне или помещики, но даже городская управа в Болхове присылает ему на утверждение свои сметы. И еще одно важное наблюдение, сделанное нашим знаменитым земляком. В церкви батюшка Егор делает все сам. Сам убирает и подметает пол, сам наливает масло в лампадки, сам ставит и зажигает свечи. Каждый день служит он в церкви. С девяти часов до часа служба и молебен. Затем тут же, не выходя из церкви, батюшка иногда до семи-восьми часов вечера лечит и дает прихожанам советы. Затем час отдыхает и принимает людей у себя дома.
В своих воспоминаниях князь Жевахов писал об отце Егоре: «…и скоро прошла о нем молва по всей Русской земле, как об Угоднике Божьем, великом прозорливце и молитвеннике… Потянулись к о. Егору и простолюдин, и знатный, и богач, и бедняк, и простец, и ученый».
Так постепенно у меня стал накапливаться материал о батюшке Георгии, и я уже давно пожалел, что не переснял его фотографию, которую видел у Клавдии Ильиничны, когда переснимал у нее виды старого Болхова. И я бы давно съездил к ней, но за шесть лет забыл и имя ее, и фамилию, и место, где она живет.
Отвела меня к ней Алла Алексеевна, с которой познакомился я на улице случайно, когда снимал в Болхове по заданию управления культуры церкви и старые купеческие дома. Старых фотографий у Клавдии Ильиничны было так много, что все я их в тот день так и не переснял. Спешил домой. Но, уезжая, записал на листке ее адрес и пообещал через два дня вернуться. В этом я тогда не сомневался. И, чтобы не таскать лишний раз, оставил у нее осветители и штатив.
Но по возвращении домой мне пришлось заниматься уже другими делами, и в Болхов я так больше не попал. Оставленные мною там штатив и осветители были старые и не единственные, и я о них не жалел.
С тех пор прошло шесть лет. Бумажку с адресом Клавдии Ильиничны я давно потерял, а где жила она, совсем не помнил. И тут случилось чудо. Полез я случайно в висящий на кухне шкаф и вижу: на видном месте бумажка свернутая лежит. Развернул ее, а там адрес и фамилия: Минаева К. И. Тянуть после этого с поездкой я не стал и вскоре выехал в Болхов.
И вот Болхов. Шесть лет не был я здесь, а каких-либо перемен не заметил.
Первая попавшаяся мне на пути Георгиевская церковь, гордо взметнувшая свою пятиярусную колокольню к небу, стояла вся в строительных лесах.
Казалось, что ее реставрация идет полным ходом, но я-то помнил, что и шесть лет назад она была точно такая. Мне было известно, что в 1920-х годах в ней служил сын Георгия Алексеевича Коссова – отец Николай. Здесь в небольшом домике, что стоял через дорогу, он и жил с семьей. После смерти отца Николая храм закрыли, а здание стали использовать под склад торговой конторы.