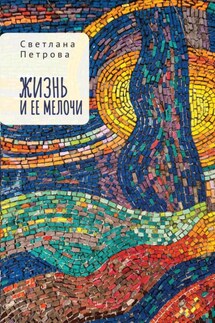Беспамятство - страница 35
Ещё зимой, отравившись палёной водкой, умерли старики Чеботарёвы, и скоро заканчивался полугодовой срок, отведенный для нотариального оформления наследства. Надо ехать в Фиму.
– Если бы я водила сама! – сетовала Надежда. – А у тебя перед экзаменами как раз есть время. Потом, в свадебной суете, его не станет. Опоздаем с бумагами.
Ляля удивилась:
– Попроси у отца машину с шофёром и езжай.
– Не хочу сплетен. Дело семейное, чужим глазам и ушам там делать нечего. Папино положение обязывает.
– Ну, тогда поедем вместе. Заодно памятник поставишь. Деньги, что ты послала на похороны, скорее всего пропили.
Пришлось Надежде Фёдоровне открыться перед дочерью:
– Не могу. Боюсь прошлого. Мать жалко, а отец урод. Как вспомню – тошнит. Пусть лежат, как положили. Мне всё равно.
Бабушку с дедушкой Ляля никогда не видела даже на фотографиях, знала об их существовании только потому, что время от времени отправляла по поручению матери посылки и переводы. Всегда удивлялась:
– Отчего такие мизерные суммы?
– Больше нельзя, упьются насмерть.
Упились-таки.
– Безработные, – пыталась оправдать родителей Надежда Фёдоровна.
Ляля пробовала рассуждать логически:
– Какие в деревне безработные, когда есть земля? Земле нужны только руки.
– Ей много чего нужно, земле-то: и лошадка, и удобрения, и любовь. А наши привыкли, что их в колхоз из-под палки гоняли, потому всячески отлынивали. Палку убрали, они и обрадовались: гуляй Вася! Догулялись.
Ляля всё пыталась отвертеться от бессмысленной, как ей казалось, поездки.
– Зачем тебе деревенская изба? Смешно. Квартира в столице, коттедж, казённая дача. Представляю тамошнее наследство!
Надежда Фёдоровна стала перечислять:
– Дом рубленый со скотным двором. Сарай. Курятник. Баня. Колодец в конце улицы, общий. Тридцать соток приусадебной земли – это немало. С одной стороны поле, с другой – лесок, мелкий ручей после войны запрудили – можно купаться, хотя дно не очень приятное, илистое. В шести километрах большое село, где до сухого закона был спиртзавод, молочная ферма, конюшни, МТС. Этого, наверно, ничего не осталось.
– Брось ты свою развалюху! Ведь никогда же не понадобится!
– Не ленись, пожалуйста, доченька, съезди, запиши на себя. Никто не знает Божьего промысла.
Когда разговор заходил о Боге, Ляля сдавалась, не желая вступать в спор: логика против религии бессильна. Хотя мать и не ходила в церковь, и не отличала веру от суеверия, но в детстве от бабок-прабабок какие-то азы Библии и десять заповедей усвоила. В её голове хранилось не так много, но что угнездилось, сидело крепко. По утрам Надя, отвернувшись, чтобы не видел муж, осеняла себя крёстным знамением и шептала:
– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа – аминь.
А если позволяло время и никого не было поблизости, то возносила Святой Троице короткую молитву. На ночь читала про себя «Отче наш» – остальное позабыла. Бубнила без смысла и безо всякого религиозного чувства. Так, память предков. Пустая надежда на то, что хорошее где-то существует. Но что может быть лучше того, что есть у неё сейчас? О каком ещё счастье мечтать? Не раз голодная, холодная, битая, лежа в одиночестве на сеновале, она пыталась представить, как выглядит счастье, а теперь, сытая и при важном муже – вот оказия-то – не чувствовала себя счастливой. Разве это счастье, когда тоска забирает так, что впору повеситься? А Бог… Что Бог? И просить-то нечего – всё есть, но вдруг сообразит, почему ей худо. Ведь ни в чём она не повинна, только в том, что родилась, терпела и надеялась. Вот и сейчас ещё надеется. Может, и не напрасно – дочка вдруг внимательнее сделалась, даже в Филькино ехать согласилась.