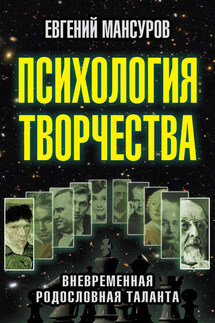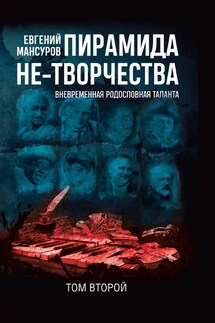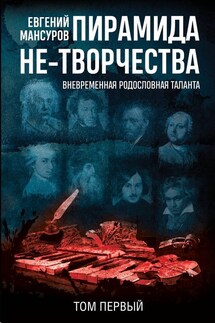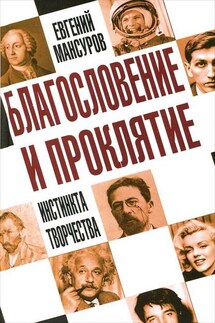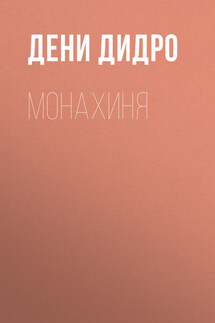Благословение и проклятие инстинкта творчества - страница 24
Отметим особую роль субъективного фактора, чему только способствуют ссылки на «ограниченность природы человека» («многим талантам не хватает каких-то ингредиентов, природно-биологических и духовно нравственных, каких именно – не всегда можно сказать с определённостью» – Н. Гончаренко, СССР, 1991 г.). Остаётся «опора» на ингредиенты самые важные, наиболее проявившиеся. Французский психолог Теодюль Рибо (1839–1916) объяснял творческую одержимость стремлением к самовыражению и требованием тщеславия, относя эти, в целом отрицательные, качества к числу ведущих мотивов научной и художественной деятельности. «Всякий созидающий человек, – пишет он в «Опыте исследования творческого воображения» (Франция, 1900 г.), – осознаёт своё превосходство над несозидающим. Как бы ни было ничтожно произведение, оно даёт автору превосходство над людьми, которые ничего не производят». «Господство над другими умами, которое художник получает при обретении известности и славы, – согласен доктор педагогических наук Валентин Петрушин, – есть удовольствие победителя, повышающее самооценку и чувство собственной значимости» (из книги «Психология и педагогика художественного творчества», Россия, 2006 г.).
Опровергать существование константы честолюбия, действительно, трудно. К мотивам, побуждающим самолюбивого юношу избрать стезю выдающегося человека, ещё можно причислить чувство соперничества, стремление к лидерству, желание утвердиться и доказать свою творческую состоятельность. Это, во всяком случае, понятно «обществу большинства». Поскольку «мир всегда покоряется силе», только достижение по настоящему амбициозной цели способно вызвать восторг толпы и почитание, а победитель «остаётся в истории навсегда». Так что стремление первенствовать и «превосходить во всех областях» изжитым быть не может. Но почему тогда главные честолюбцы, сжигаете своей страстью изнутри, не достигают заоблачных высот, не могут похвастаться своим «даром нездешним»? Разве у них не идёт природно-биологическая и духовно-нравственная мобилизация для «прыжка выше головы»?
«Многое может помочь становлению гения, но не сотворить его, – предупреждает психолог Николай Гончаренко. – Не каждый человек, сказавший: «Я хочу стать гением, и я стану им», осуществляет своё желание…» (из книги «Гений в искусстве и науке», СССР, 1991 г.).
В момент «авторождения» тому, кто становится гением, важно быть направленным на мир, познать его лучшие интеллектуальные и художественные достижения и поставить целью «утончить» их с помощью способностей своего ума и силы духа.
Для честолюбца, стремящегося затмить первых лиц истории, важна направленность на себя: зачем так много знать о других, чьи свершения есть только тормоз, преграда на пути собственных достижений?
Когда Оноре де Бальзак (1799–1850) свидетельствовал, что «хочет превзойти Наполеона», он имел ввиду грандиозные деяния на поприще литературном, достижение непревзойдённого мастерства, сопоставимого с мастерством гениального военного стратега. Соотнося свой гений с гением Наполеона, он и хотел превзойти его, когда над своим письменным столом начертал девиз: «Что он начал мечом, я довершу пером».
Начатое А. Пушкиным и М. Лермонтовым, Иван Бунин (1870–1953) считал своей стезёй, по которой он должен двигаться дальше.
Любой «среднячок» не прошел бы и половину пути. Значит, ничего не оставалось, как стать «исполином». «Самому мне, – признавался И. Бунин, – кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, и не от самомнения, а просто е силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может».