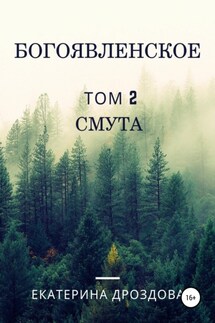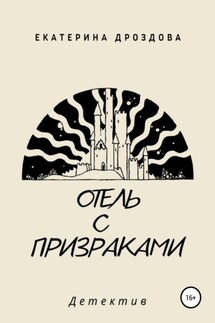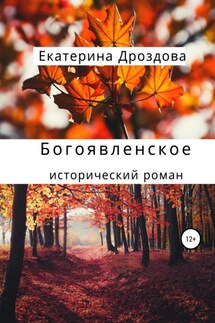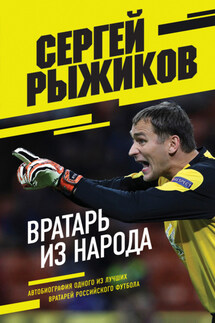Богоявленское - страница 13
Встреча не заставила себя долго ждать. Стоило Ивану появиться в обществе фрейлины двора, баронессы Александры Васильевны д’Огер, как в ту же секунду судьба ее была решена. Лучшей партии Ивану было не сыскать. Александра была дочерью голландского дипломата, принявшего российское подданство, внучкой фаворитки Петра III Воронцовой, да ещё и поразительной красоты. Перед напором молодого князя Ивана Сенявина устоять было невозможно. Свадьбу отпраздновали пышно.
Тут уж Иван Григорьевич возгордился ещё сильнее, чего не простили ему в обществе. Красотой Александры восхищался Вяземский, и недоброжелатели тут же усмотрели в блеске её черных глаз уныние и печаль, обвинив в том деспотизм Ивана, сам Пушкин назвал его славным малым и своим приятелем, и злые языки принялись обвинять его в надменном обращении с сослуживцами, в заносчивости от родства с Воронцовыми, в желании подчинять и не желании подчиняться, его удостоили награды орденом св. Анны 3-ей степени с бантом за осаду и взятие крепости Варны, а в свете только огорченно вздохнули оттого, что Иван на этой войне не был убит. И Иван стал жить будто наперегонки с высшим светом: все восхищаются успехами на гражданской службе брата Левушки, и Иван, словно в насмешку, оставляет военную службу в чине полковника и поступает на гражданскую службу в Департамент уделов. За три года, перещеголяв брата, добивается назначения в кабинет Его Величества, Левушку с великими надеждами провожают в посольство в Константинополь, а Иван, пользуясь отсутствием брата, отодвигает его от наследства, оставленного умершим отцом, забрав себе и жемчужину – Богоявленское. После возвращения из Константинополя Лев Григорьевич произведён в действительные статские советники, но и карьера Ивана складывается как песня – управляющий императорскими стеклянными и фарфоровыми заводами, новгородский губернатор, московский гражданский губернатор, товарищ министра внутренних дел, председатель двух комитетов об устройстве быта лифляндских и эстляндских крестьян. Иван Григорьевич прославился своей необыкновенной памятью, знанием законов и, что бы ему ни поручалось, со всем справлялся: будь то совет детских приютов или московского художественного общества, будь то комитет по устройству исправительных тюрем или комитет по пересмотру устройства о гражданской службе или даже комитет для принятия мер против появившейся в стране холеры. Так же и в отношении семейной жизни он стремился к совершенству, Лев Григорьевич оставался холост, Ивану же супруга одного за другим родила семерых детей.
Но однажды удача всё-таки отвернулась от Ивана Григорьевича. Выйдя в отставку, дабы не сойти с ума от скуки и безделья, Иван Григорьевич вспоминает о родовом имении, забытом и обветшалом за годы отсутствия в нем хозяина, и с присущим ему азартом принимается облагораживать его усадьбу. Стараясь угодить любимой жене Александре, голландке по происхождению, усадьбу он перестраивает в готико-стрельчатом стиле, близком и родном для каждого европейца-католика, а в память о славном военно-морском прошлом своих предков крышу усадьбы перестраивает так, чтобы она напоминала своим видом корабельную палубу. Одновременно с перестройкой здания Иван Григорьевич закладывает и аглицкий парк с большим прудом в его середине. Этот необыкновенно модный и красивый парк становится жемчужиной имения и предметом огромной гордости его создателя. Так стараниями одного человека в центральной России, появился двухэтажный каменный архитектурный шедевр, напоминающий европейскую готику, с русскими деревянными постройками вокруг, с православной церковью Иоанна Богослова.