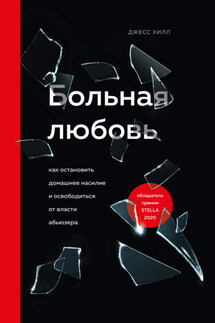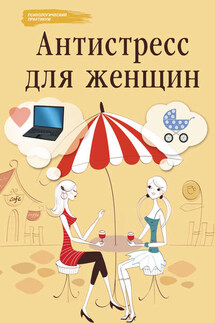Больная любовь. Как остановить домашнее насилие и освободиться от власти абьюзера - страница 40
Стокгольмский синдром как патология описывается специалистами весьма размыто и не имеет четких диагностических критериев.
В 1980-е и 1990-е годы большинство юристов и прочих экспертов объясняли поведение жертв домашнего насилия стокгольмским синдромом, синдромом избиваемой женщины и выученной беспомощностью. Потерпевших представляли простодушными, запуганными, покорными, задавленными, боязливо жмущимися в угол. Этому стереотипу и сейчас часто привержены многие из тех, кто выступает в судах Западного мира. Они рисуют образ «белой женщины, принадлежащей среднему классу или из рабочей семьи, хорошей матери и верной супруги, которая делает все от нее зависящее, чтобы ублажить абьюзера и огородить его от судебного преследования». [22] Если пострадавшая не соответствует этому стандарту, то есть являет собой «трудный случай» – сама подвержена зависимости или отвечает насилием на насилие, чтобы защитить себя и детей, или проявляет другие разнообразные признаки травмированности, – ее будут осуждать и могут счесть более виновной, чем мужчина, который над ней издевается.
Но даже если женщина сильная и независимая, судебные органы все равно могут дискриминировать ее. Ведь в голове у чиновников не укладывается, как разумная и самостоятельная личность может в то же время в чем-то быть уязвимой и беспомощной. В общем, когда история жертвы не соответствует «стандартному мелодраматическому сценарию, в котором добродетельная жена противостоит однобоко изображенному мужчине-злодею», правоохранительная система не понимает, что с ней делать. [23]
Реальность такова, что женщины, живущие в подполье, как и заложница Кристин Энмарк, постоянно продумывают стратегии преодоления ограничений и ищут способы обезопасить себя. Это убедительно доказывают исследования. Изучение историй 6000 женщин из 50 специальных приютов в Техасе позволило составить нечто вроде «женской теории выживания». [24] Выяснилось, что все бежавшие от насилия были вовсе не беспомощными, а как раз наоборот. Большинство из них проявили огромную изобретательность, пытаясь остановить абьюз. Еще одно исследование продемонстрировало, что подвергающиеся давлению женщины бывают не только изобретательны, но и используют сложные решения для преодоления проблем, а также не стесняются обращаться за помощью. [25] Стоит отметить: чтобы покинуть мучителя, им приходится преодолевать не психологические, а социальные препоны. Во многих случаях им чинят препятствия государственные чиновники, в частности полиция и службы, отвечающие за предоставление пособий. Они не оказывают пострадавшим должной поддержки, а потому затрудняют разрыв с домашним тираном.
В XIX и в начале XX века, пока патриархальная психиатрия изображала жертв насилия безумными, испорченными, но достойными жалости особами, «героини подполья» продолжали жить, как жили. И защищались от агрессора, как могли. Линда Гордон, исследовавшая материалы 1880–1960 годов о борьбе переживших жестокое обращение женщин за свои права, обнаружила один постоянно повторяющийся сценарий: изобретательная представительница слабого пола при небольшой помощи или совсем без помощи государства сопротивляется абьюзеру, причем иногда отражает его нападки весьма успешно. [26] Женщины в подполье никогда не желали терпеть давления и не были пассивны перед лицом угрозы.
Мы мало слышим о таком противостоянии, но при этом храбрые жены каждый день дают отпор мучителям, не боясь последствий. Одна из пострадавших, Николь Ли, так рассказывает об этом: «Я вступала с ним в спор. У меня не было сил дальше терпеть эти издевательства, слишком долго я сдувала с него пылинки. Если он оставлял тарелку на столе, я взрывалась: “Ты что, не может поставить эту чертову посуду в раковину?!” Тарелка летела в меня. Потом я думала: “