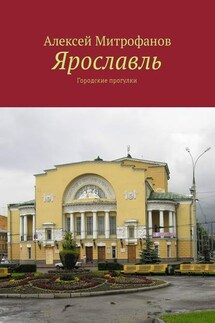Большая Лубянка. Прогулки по старой Москве - страница 4
Новые люди чуждались веры – или им так казалось. Несомненно – им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.
Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренные обыватели приходят сюда с трепетом, просят – заикаясь, уходят – плача, хитрят прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.
От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас – яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелостью товарных образцов, сейчас – знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.
При входе – балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, – ждут своей участи.
Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях, – для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.
На стенах каморок карандашные надписи смертников:
И могила нарисована – высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей – имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память, – как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских ворот: «Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов, по прозвищу Ванька Огонек».
А рядом, в общей камере Корабля, – мелочь: каэры, эсеры, меньшевик со скудной бородкой, в очках, гнилозубый, трус, без огня и продерзости – человеческая тля.
На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, комиссар смерти Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с неспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек – Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.
На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом – из меньшевиков, спорщик пишет заявленья, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом – спекулянт, продал партию сапожной кожи – да попался. И еще рядом сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего.
– Здравствуй, Степа. Куда едешь?
– Должно – в Могилевскую губернию.
А сам бледный, давят на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная.
И скоро уводят Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!
Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить, – да не все охотно делят с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки – беспардонный палач, мать родную – и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка клочьями и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.