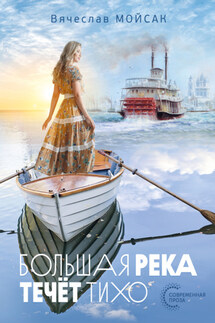Большая река течёт тихо - страница 15
– А как ты пришёл, тебя отпустили?
– Нет, – отвечал Роман.
– А как же ты?
– Сам убежал.
– Так они ж могли стрелять.
– А-а, пускай стреляют. Когда я уже побежал, мне не страшно, – так он ответил.
После всего этого он уже недолго и прожил. Умер молодым, оставив вдовой Татьяну с двумя детьми – мальчиком и девочкой. Мальчика звали Евдоким, девочку – Фрося.
Когда мужа Романа не стало, Татьяна стала судиться со свекровью за имущество. Начались бесконечные суды. Видно, она этот пример позаимствовала у своей матери. Та тоже с кем-то имела судебные тяжбы. И однажды, уже после того как зятя не стало, мать Татьяны Кобелихи поехала конём на телеге в город на суд. И тот судебный процесс оказался для неё очень удачным. Решение суда было в её пользу. Заседание суда, следует полагать, тогда было долгим. И она – мать Татьяны, или тёща покойного Романа, – удовлетворённая результатом, обрадованная, прежде чем ехать домой, решила подкрепиться – хорошенько закусить. Села на возу, достала торбу с захваченной из дома провизией и стала есть. И, когда ела творожный домашний сыр, вдруг нечаянно поперхнулась, крошки попали не в то горло. Никого рядом не было, чтобы хоть постучать по спине, она так и скончалась прямо на возу. Лошади уже остывший труп сами привезли домой в деревню.
Дочку Татьяну подобный случай, видно, ничему не научил, и она долгое время продолжала судиться со свекровью, а затем и со своей золовкой – младшей сестрой Романа – Леной. Поля вышла замуж и ушла в семью Скарабеевых. Лена же, в своё время выйдя замуж за Степана, осталась в своём доме, Степан пришёл к ним жить как примак. И Татьяна Кобелиха уже после смерти свекрови продолжала с ними судиться. И дошло до того, что Степан однажды воскликнул: «Ленка, я больше не могу. Пусть она забирает всё. Этими бесконечными судами она меня в могилу загонит!» И отказался от дальнейших претензий на делёж имущества.
Татьяна же отсудила себе дом, сад, участок и осталась там жить. Елене с мужем пришлось уйти ни с чем. Потом это всё досталось Татьяниному сыну Евдокиму. Он впоследствии там всё время и жил возле реки. А мать его вышла ещё раз замуж уже в соседнюю деревню Дребск и там жила всю оставшуюся жизнь. Кстати, интересная деталь из её последующей дребской биографии. Умер её муж или сожитель. Как это часто водится у второбрачных, официально их брак, может, и не был зарегистрирован. А может, и был. Так как это было в её интересах, чтобы иметь полное право на имущество мужа. Рассказывали, она это событие встретила настолько буднично-спокойно, что, оставив покойника лежать на лаве, закрыла хату и пошла на реку стирать бельё. Дескать, стирка сейчас важнее, а покойник пусть лежит, всё равно никуда не денется, и с похоронами успеется.
Внук бабы Поли Петя помнил, когда они, бывало, шли с бабушкой из Кожан-Городка через Дребск на поезд, то, случалось, встречали высокую худощавую старуху. Бабушка Полька с ней здоровалась, останавливалась, и они разговаривали. Это была Татьяна Кобелиха, уже в возрасте, пожалуй, несколько старше бабы Польки. И признавалась ей теперь: «Ох, Полечка, боюсь-боюсь умирать». Потом дома, рассказывая о её теперь таком признании, баба Полька вспоминала. Когда та была моложе, то, если речь заходила о смерти, о воздаянии человеческой душе в загробном мире, та изрекала всегда такую фразу: мол, главное, чтобы мне здесь было хорошо пожить. «А на том свете, – говорила она, – нехай моею душею хоть плот подпирають». Плот – на местном наречии – забор, плетень. При его изготовлении забивали заострённые колья в землю и между ними заплетали лозу. Такого рода ограждение могло не разрушаться долго. Единственным уязвимым местом было то, что не очень толстые колья, забиваемые в землю, подгнивали быстрее, чем сам плетень. И тогда всё ограждение начинало крениться в сторону, грозило упасть. В этом случае его подпирали кольями с одной или с обеих сторон. И часто можно было видеть такую картину: на всём протяжении плетень, подпёртый кольями. Пете в детстве, когда он слышал эту фразу про душу, подпирающую плетень, душа Татьяны Кобелихи представлялась в виде большого рыбьего плавательного пузыря. Этакий огромный пузырь, почти в рост человека, прозрачный, заполненный воздухом. Он состоит из двух половинок, острых на концах, подпирает покосившийся плетень. Дело в том, что у них в семье, когда потрошили белую рыбу, где обычно встречается плавательный пузырь, то называли его «душа», мол, рыбья душа. С такой «душой» можно было играться. Например, положить на пол и наступить ногой, слышался характерный громкий хлопок. Однажды, когда уже жили в Лунинце, где-то под Новый год или Рождество привезла им из Кожан-Городка рыбы Зина Панчукова. Муж её работал бакенщиком на Припяти, постоянно ловил рыбу. В основном это была белая рыба: крупные язи или лещи. Тётка Анна чистила эту рыбу, а «души» – плавательные пузыри – отдавала Пете. Он с ними поступал следующим образом: некоторые, сняв с ёлки конфету и съев её, заворачивал в фантик и вешал обратно. Это был «рай» для этих душ. А другие просто клал на пол и хлопал по ним подошвой башмака, получая удовольствие от «выстрела». Эти, считалось, попадали в «ад».