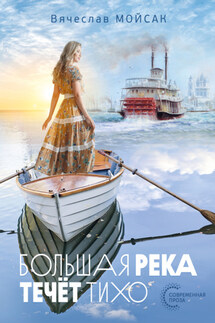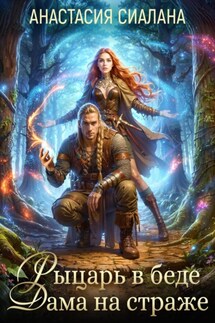Большая река течёт тихо - страница 5
Бывало, что временами Анне становилось и лучше. Тогда она без дела не сидела. Например, кроме родного брата Бориса, ей вскоре поручили нянчить и двоюродного Мишку, сына Елены – младшей Полиной сестры. Этот ребёнок был также очень болезненным, надо было с ним сидеть в хате. Елена и Степан тоже шли в поле работать. И случилось так, что их ребёнок вскоре умер. В этом стали обвинять Анну: мол, не досмотрела. Якобы она оставила его одного в хате, а сама ушла к подругам. Он находился какое-то время там, а потом выполз в сени (коридор) и сидел под дверью. Когда Елена возвратилась с поля, стала отпирать дверь. Замок же был в виде деревянного или металлического засова изнутри. И он открывался специальной дубовой палкой через прорезанное круглое отверстие. Та палка служила своеобразным ключом. Когда Лена стала отпирать дверь, то нечаянно ударила этой дубиной сидевшего под дверями ребёнка. Говорили, это и усугубило состояние его болезни, потому он умер.
В начале Порохонской улицы, ближе к центру местечка, на взгорке стояла Свято-Николаевская церковь. Престольный праздник отмечался там на святителя Николая Мирликийского два раза в году. Зимний Микола – 19 декабря, весенний – 22 мая. В этот день обязательно проводились крупные ярмарки. В центре Кожан-Городка становилось многолюдно: съезжались со всей округи и более отдалённых мест купцы, как говорится, с красным товаром. Выходил из церкви после службы нарядно одетый люд. Шла бойкая торговля, устраивались всевозможные развлечения, гулянья.
Во время ярмарки на зимнего Миколу выходил со своего двора парень в голубой рубахе по прозвищу Басева. Мороз трещал, а он в одной только рубашке. И не потому, что такой закалённый парень, а просто был из бедной семьи и не имел что надеть из праздничной верхней одежды. Не было у него ни пиджака, ни кожуха, соответствующего случаю. Повседневный, может, и был какой, но куда в нём на праздник. Девушки, завидев его, весело кричали: «Иван, купи нам кирмашовэ!» То есть что-нибудь из сладостей, которые в изобилии продавались здесь теперь. Тот только смущённо потупит взгляд, пройдётся туда-сюда по базарной площади и, ссутулившись от холода, пробирающего до костей, быстрее зашагает домой.
Прихожане тамошней церкви в складчину устраивали братский обед и угощали паломников, прибывших к ним на праздничную службу. Обед носил название «братского». Православные братства создавались в Беларуси, особенно в её западной части, ещё в средневековье, чтобы хоть как-то противостоять экспансии католиков и униатов. В описываемый нами период они выполняли больше культурную, образовательную функции, да ещё благотворительную, например, организацию таких вот праздничных угощений. Братчиком в то время было быть почётно: во время богослужения, в особо торжественные моменты, когда пели «Херувимскую», «Верую», «Отче наш», братчикам раздавали большие зажжённые свечи, которые они в это время должны были держать в руках. Баба Полька даже и в советское время, когда уже жили в Лунинце, собираясь на праздник в Кожан-Городок, говорила: «О, я ж в церкви там свечку держу. Я ж в братчиках там. Мы сдавали по рублю на эти свечки…»
3
Детство самой Поли прошло в этой же Порохонской улице, в доме недалеко от реки. У Полиных родителей Анны и Ивана было четверо детей: два мальчика и две девочки. Самым старшим был брат Николай, затем Роман, потом Поля, и самой младшей была Лена. Их отец Иван Фёдорович, рассказывали, вроде был не из крестьян, а как будто из некой мелкой польской шляхты. И звали его на польский манер не Иван, а Ян или Ясь. И когда Анна с ним только начала встречаться, будучи ещё девушкой, то, с нетерпением ожидая очередной встречи с возлюбленным, напевала такую песенку с польскими словами: «Бендзе (