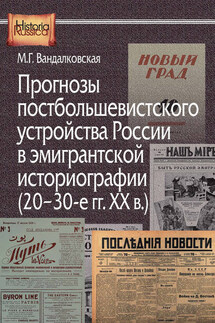Большевик, подпольщик, боевик. Воспоминания И. П. Павлова - страница 5
После падение крепостного права крестьяне нашего села оставались в вечном долгу у помещика, не имея ни своего леса, ни выгонов, ни лугов. Лес брали у помещика, луга, выгоны арендовали у него же, отрабатывая натурой: каждый год удобряли, пахали, сеяли, пололи и убирали барину целое поле. Все это – последствие отрезков и отработок, о которых говорил В.И. Ленин. Наши крестьяне ежегодно прудили оба пруда в уплату за езду по плотине и ловлю рыбы. Своей земли по наделу у них было мало, но и за ту платили 50 лет. Например, на нашу семью из 9 человек земли приходилось всего 4 ½ десятины, по 1 ½ десятины в каждом поле. Из трех полей ежегодно засевали два, третье оставалось под паром. Конечно, этого не хватало, и отец каждый год арендовал несколько десятин у соседей-башкир. То же делали и остальные крестьяне нашего села. Сеяли овес, просо, рожь, полбу, гречиху, горох. Пшеницу никто не сеял – она в наших краях не росла. Бывало, кто-нибудь из кулаков ради забавы на башкирской земле посеет ее с полдесятины. Про такую пшеницу говорили – «пироги растут», а «пироги» эти только по колено и давали с полдесятины много-много пудов десять.
Питались крестьяне плохо. Беднота – хлебом, квасом, картошкой, более обеспеченные, вроде нашей семьи, чай пили раз в неделю, мясо ели трижды в год. Масло, яйца шли на базар, о сливочном масле я узнал только в Уфе – в деревне у нас его не ели. Улучшали свой рацион рыбной ловлей или, как наш отец, резали скот, мясо продавали в уплату за скотину, а сбой – семье. Но и то, когда съедалась картошка, а хлеб был на исходе, питались квасом с зеленым луком и выловленной рыбой.
В таких условиях я родился и провел раннее детство. Детство крестьянского мальчика! Как много воспоминаний оно будит под старость! Постоянное общение с природой, ловля рыбы, раков, сбор грибов, охота за птицами, сусликами, летом купанье, по вечерам песни у костра, зимой катанье на коньках, на салазках. Все лето босиком и без шапки дни напролет. Солнце палит, обжигает лицо, волосы выгорают, на пятках и икрах трещины от цыпок. Дождь и грязь вымажут – не узнаешь себя. Весной ели какой-то желтый цветок, рыли в низинах дерн, добывая неведомый «красный корень». А придет зима, сколько раз Дед мороз обморозит тебе нос, щеки, руки и ноги, приходишь домой мокрый с головы до пят! Сколько раз за зиму отогревают на печке твое окоченевшее тельце! Некрасов в своем стихотворении «Крестьянские дети» правильно писал: «Положим, крестьянский ребенок свободен, растет, не учась ничему, но вырастет он, если богу угодно, а сгинуть ничто не мешает ему»[16]. Вот именно: «а сгинуть ничто не мешает ему».
Я рос, как все крестьянские дети. Хотя не был особенно озорной, в детские годы (до школы) три раза тонул, падал с колокольни; топором мне отрубили два пальца на руке; не раз падал с возов, побывал и под бороной. В 6 лет пастухом встречался с волками, попадал под сани с дровами, один раз во время игры в шар получил нечаянный удар в висок – из носа и рта пошла кровь, но полежал немного, ожил и пошел купаться с ребятами. Каждый такой случай мог кончиться смертью. Но остался жив!
Тонул я так. В первый раз – во время купанья. Нырнул с моста и попал под его старое крыло. Осмотрелся в воде и выплыл на свет. Не посмотри или растеряйся – утонул бы наверняка, ибо вдохнул воздух уже почти наверху, пополам с водой. Едва не задохнулся, но успел выбраться на берег. После этого случая я нырять боюсь и посейчас глубоко не ныряю. Хотя плаваю по-прежнему хорошо.