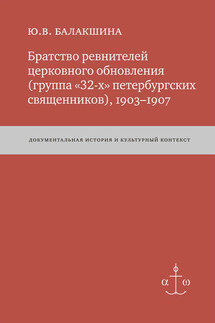Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских священников), 1903–1907. Документальная история и культурный контекст - страница 3
С точки зрения новоевропейского сознания, поставившего во главу угла идею постоянного развития, прогресса, церковь, много веков хранящая непреложным данное ей Откровение, казалась застывшей, неподвижной, скованной догматами. Возникал вопрос о возможности религиозного творчества в христианстве, о совместимости христианской религии со свободными потребностями человеческого духа.
Наконец, одним из ключевых вопросов, прозвучавших в XIX веке из «лагеря культуры» в адрес «церковного лагеря», стал вопрос об отношении христианства к плоти, к человеческой жизни, к «земному» идеалу, в конечном итоге – к искусству, потому что «всякий художественный образ есть все-таки не бесплотная духовность, а одухотворенная плоть или воплощенный дух»[14]. Распространяется ли призыв апостола: «…не любите мира, ни того, что в мире. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская…» (1 Ин 2:15–16) – на литературу? Ответ на этот вопрос не был, например, для Гоголя простым и очевидным. Д. С. Мережковский, размышляя о религиозной драме писателя, так сформулировал суть его внутреннего вопрошания: «Он хотел, чтобы церковь научила его отделять мир, который “весь лежит во зле”, от мира, который Бог так возлюбил, что Сына Своего Единородного принес за него в жертву»[15].
Попыткой изнутри церкви ответить на высказанные богоискательски настроенной интеллигенцией вопросы, но еще более – на невысказанные запросы и вызовы эпохи, стало движение церковного обновления. Характерно, что в начале 1900-х годов сближение друг с другом людей, в будущем составивших ядро движения, происходило именно по принципу сходства взглядов на такие ключевые проблемы, как отношения церкви и государства, церкви и культуры, церкви и современного мира. Так, в 1903 году свящ. Константин Аггеев, переехав из Киева в Петербург, почти сразу обрел друга и единомышленника в лице свящ. Иоанна Егорова, своего товарища по службе в Смольном институте благородных девиц: «Егоров – по призванию законоучитель и живет своим делом. Ко всему этому удивительно образованный человек, – эстетик какой-то. Он подает магистерское – “Библейское творчество.”. Солидарность как в общих, так и в педагогических взглядах создала нашу внешнюю, так сказать, неразрывность…» (С. 222)