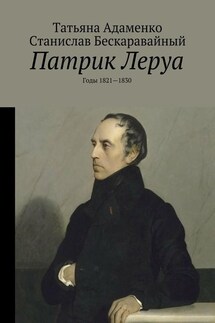Бытие техники и сингулярность - страница 17
Но как же тогда отделить техническое от человеческого, тем более, как провести эту границу внутри самого человека? Ю. Хабермас на основе гегелевской диалектики попытался разделить интеракцию и труд. Первая – это взаимодействие между людьми, «акции обособленных и самодостаточных субъектов» [241, с. 21]. Второй «специфический способ удовлетворения инстинктов, который выделяет существующий дух из природы» [241, с. 25], «разрушает диктат непосредственных вожделений и словно приручает процесс удовлетворения побуждений» [241, с. 26]. Но хотя сведение интеракции к труду невозможно, они остаются чрезвычайно зависимыми друг от друга, что проявляется в связи между нормами права и процессами труда [241, с. 34].
Разделение, проведенное Ю. Хабермасом, однако, исключает из объема понятия «труд» любую умственную работу при взаимодействии субъектов, ее необходимо объявить интеракцией. То есть обучение, политическая борьба или театральное представление уже не труд (что, очевидно, не верно).
Компьютерная революция привнесла в философию не просто идею перманентного прогресса, но идею опережающего прогресса, когда машина развивается быстрее человека и будет познавать мир полнее, чем homo sapiens. Но если антропоцентризм столкнулся с необходимостью ограждать человека от феномена прогресса (и, соответственно, ограничивать понимание техники, сводя ее к предметно-орудийной деятельности), то технократизм получил даже две проблемы: а) что породит технический прогресс при своем дальнейшем развитии; б) что ограничивает человека в рамках технического прогресса.
Список требований к технике, которая бы стала осмысливать окружающий мир (и тем приближалась к человеку), был во многом сформулирован еще в конце 70-х [246].
Проблема туманности перспектив развития в итоге оказалась решена превращением нужды в добродетель – созданием концепции «технологической сингулярности»: компьютеры неизбежно обретут свойства самоорганизации, будет создан искусственный интеллект. В результате новые субъекты познания будут обладать такими возможностями и скорость развития техники повысится настолько, что сейчас спрогнозировать их действия практически невозможно. В. Виндж, Р. Курцвейл – наиболее яркие современные сторонники этой концепции.
В ее рамках также содержится противоречие: с одной стороны, «закон Мура», удвоение мощности компьютеров каждые полтора года, неизбежно требует качественного отражения того громадного количественного роста вычислительных мощностей, что идет уже четвертое десятилетие. С другой стороны, высказываются сомнения как в возможностях создания искусственного интеллекта как такового [173], так и в экономических возможностях мир – системы, которые должны обеспечивать такой скачок [102].
Закономерным следствием идеи сингулярности стал трансгуманизм: если прогресс обретает практически бесконечную скорость, то единственный способ сохранить за человеком значимость – трансформировать человека.
Разнообразные формы воспитания, естественно, оказываются недостаточно глубокой трансформацией, тем более воспитание остается антропоцентричным. Идеи трансформации человека, не предусматривающие его познания, глубинного изменения его сущности, показали себя такими же калечащими и уродующими людей, как и дикарские ритуалы инициации.
Идеи технического сохранения и даже бессмертия человека существовали еще в XIX веке – русский космизм, основанный Н.Ф. Федоровым.