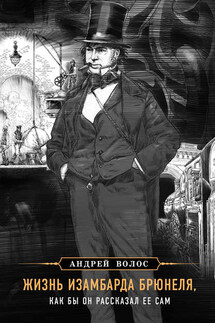Царь Дариан - страница 2
Кстати говоря, иногда я столовался и в иных местах. Теперь и не вспомнить, на кой черт было подвергать организм столь безрассудным испытаниям, разве что молодость вообще не склонна себя щадить или смысл поговорки «от добра добра не ищут» понимаешь не вдруг. Так или иначе, время от времени меня заносило в одно заведение возле «Детского мира», почти напротив Северных ворот Зеленого. Здесь, в столовой № 4, чтобы насытиться тарелкой блеклого борща и биточками с картофельным пюре (биточки из хлеба, склеенного чем-то вроде комбижира, пюре синеватого оттенка и столь жидкое, что при желании его можно было бы пить), посетителю приходилось для начала спуститься на пол-этажа в полуподвал одного из тех самых домов на Лахути.
На кухне, отделенной от основного помещения низкой перегородкой, пылали печи, кипели кастрюли, шкворчали сковороды с упомянутыми биточками, пахло не то псиной, не то грязными тряпками, вулканический жар тек в зал и слоился зримым маревом. Нельзя сказать, что здесь не проявляли заботу о посетителях: с целью создания комфортной обстановки надрывно выл вентилятор, двери не закрывались в надежде на сквозняк (хотя какого сквозняка можно было ждать в этой каменной коробке), и вообще все делалось, чтобы не усугубить, а, напротив, облегчить едокам сорокапятиградусную жару улицы. Тем не менее всякий визит туда был похож на то, как Орфей спускается в ад, – не в том смысле, что ты казался себе Орфеем, а в том, что это место определенно представлялось адом. Проведя в столовой № 4 пятнадцать минут, ты возносился к свету и воздуху в том состоянии, когда не можешь толком понять даже то, поднимается ли вместе с тобой и тело.
2
Я встретил Мухибу в ту казавшуюся многообещающей пору, когда в глубинах земных кое-что начинало содрогаться: разумеется, это тоже были землетрясения, но они, в отличие от заурядных тектонических сдвигов, являлись отражением людских надежд на осуществление как чаяний, так и притязаний.
Как-то раз мы обедали с Рустамом в той самой столовке-кафешке, что неофициально называлась академической. Был октябрь; зной отступил до следующего года; чинары печально пламенели, а подчас на стол слетал сухой до хруста покоробленный лист. И запах, запах! – нигде не пахнет осень так, как в Душанбе: пряностями пересыпана листва под ногами.
Это было уже после нашей недолгой размолвки. Когда оказалось, что Мухиба более склонна проводить время со мной, чем с ним, между нами пробежала черная кошка. Даже случился однажды по этому поводу краткий, но совершенно нелепый разговор. Начал его Рустам, я чувствовал неловкость, а толку не было и не могло быть, и я понял лишь, что он не на шутку страдает, – но чем я мог ему помочь. Потом мы не разговаривали и старались не встречаться, хоть это и трудно в тесноте маленького института, – ну просто сторонились друг друга, вот и все.
Примерно через месяц или, может быть, полтора под вечер он неожиданно заглянул в комнату и, молча помавая ладонью, выманил меня на улицу со столь серьезным и загадочным видом, что я, честно сказать, маленько струхнул: все, подумалось мне, сейчас зарежет.
И правда, Рустам шагнул ко мне так решительно, что не осталось сомнений насчет окончательности приговора, но, вместо того чтобы пырнуть ножом, он всего лишь обнял меня за плечи. «Ладно, – сказал он, – бараджон[3], прости, я понял, что был не очень прав, точнее, даже очень не прав. Это же стихия, это горный поток, это дикая река, она несет куда хочет, ничего сделать нельзя, если уж в нее попал, можно рассчитывать лишь на удачу: тебя или разобьет о камни, или, если повезет, вынесет на отмель. Тебе повезло, а мне нет. Забудем?»