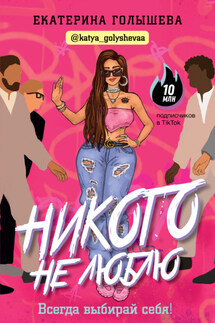Царь-оборванец и секрет счастья - страница 11
– Папа, говори громче! – просила она.
Для Илайджи мой отсутствующий голос означал новое занятие. Когда я был с Тали, она говорила за меня. Но поскольку теперь она, чтобы возместить семье хотя бы часть моего утраченного дохода, работала сверхурочно, моим голосом стал Илайджа. Мой шепот заглушался любым внешним шумом – звуками проезжавшего мимо автомобиля, музыкой или пролетающим самолетом, – сын ходил со мной за покупками. Когда мне было нужно что-нибудь сказать, я шептал слова ему на ухо, потом поднимал его повыше, и он повторял громче:
– Папа хочет сдачу с двадцати долларов.
Сначала нас обоих развлекала эта новая игра. Хорошо, думал я, укрепление отцовско-сыновней связи, новое приключение. Илайджа прилежно делал свое дело, но со временем я начал замечать, что всеобщее внимание посторонних стало для него обременительным. Он и всегда-то был застенчив, а тут начал прятаться от продавцов в магазинах, от зеленщиков, банковских служащих – от всех, кто без конца повторял, какой он милый мальчуган. Один даже спросил, не чревовещатель ли я. Илайджа выдержал это стоически, но я видел, как он смутился – даже не за себя, а за меня. Почувствовав это, я старался говорить громче, когда мог, но мой шепот все только портил. Илайдже не хотелось, чтобы люди думали, будто со мной что-то не так.
На публике нам было непросто, а когда мы оставались с ним наедине, делалось еще труднее. Илайджа как раз вошел в возраст бесконечных вопросов, когда мир представляется одной сплошной загадкой, а родители – знатоками всех ответов. Я так ждал этого момента с самого его рождения. И вот теперь, когда вопросы возникли, я силился на них отвечать.
– Пап, почему на валлийском флаге дракон? Или, может, это гриф? А в чем разница? Это миф такой? Ты мне рассказывал про тролля. Где живут тролли? Ты говоришь по-французски? Как устроено время? Что такое «чревовещатель»? Почему ты не можешь говорить?
В ответ на каждый вопрос я выжимал из себя пару слов, а остальное пытался восполнить с помощью жестов. Рисовал на салфетках. Вытаскивал с полки книги и тыкал в картинки. Сын с благодарностью кивал, а минуту спустя задавал следующий вопрос, и все начиналось сначала.
Через месяц после операции Тали снова забеспокоилась. Она старалась скрывать это, особенно при детях, но по утрам, когда мы просыпались, ее волнение давало о себе знать.
– Ты чувствуешь что-нибудь? Дергает?
Доктор сказал, что перед тем, как голосовой нерв вернется к жизни, может слегка покалывать или дергать.
Я качал головой.
– А сейчас? – спрашивала она пять минут погодя.
– Не волнуйся, – шептал я, – все… будет… хорошо, – сиплым шепотом я мог выдавать слова по одному-два, с передышками.
– Но я все равно волнуюсь. Волнуюсь за тебя. Что, если голос совсем не вернется?
– Мой отец… говаривал… что девяносто… пять процентов… – я перевел дух. Собрался повторить одну его шутку, что девяносто пять процентов того, о чем мы волнуемся, никогда не случается, а значит, беспокойство – эффективное средство против неприятностей. Но в этот раз с шуткой я промазал.
– Да, – сказала она, – я как раз думала о твоем отце.
Она больше не произнесла ни слова, но мы прожили вместе уже достаточно, договаривать и не обязательно. Хотя Тали никогда не видела моего отца, она достаточно наслушалась о его жизни и считала, что та – худший сценарий для моей.
Я часто думал об отце, особенно об одной истории – об анекдоте, который он обожал: человек идет к портному, чтобы заказать себе костюм. Портной снимает с него мерки и приглашает зайти через неделю. Но когда человек заходит за костюмом, оказывается, что сидит тот на нем просто ужасно.