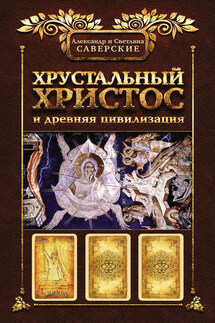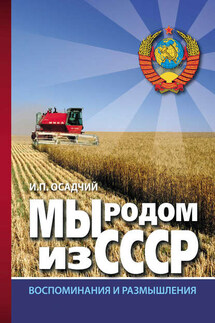Царство и священство - страница 53
Став на путь богопослушного познания, мы должны категорично заявить, что государство – не аппарат управления, и даже не политическая элита, которая управляет обществом. Язык без труда расставляет все по своим местам: элита – это элита, политическая аристократия, а аппарат управления – это аппарат управления, чиновничество. Само же государство представляет собой известную совокупностью людей, проживающих на определенной территории, образовавших некую этническую группу, управляемых одной властью и руководствующихся одним и тем же законом (обычаем, традициями, нравственностью). Иначе, как нередко говорят, государство – это политически организованное общество, отечество.
Менее всего можно было бы представить, что всегда или хотя бы изначально, т. е. на первой стадии, государство образовывается насильственным путем за счет подчинения сильными группами (классами) своих менее их приспособленных к жизни соплеменников. Святитель Филарет (Дроздов) – память 2 декабря – называл государство «великим семейством», что очень верно по сути[104]. И как здесь не вспомнить классическое: «Государство слагается из отдельных семей»?[105]
Нет никаких сомнений в том, что главной идеей государственного строительства всегда выступало естественное желание людей жить вместе, сообща. Иными словами, государство – союз добровольный. Об этом весьма доходчиво писал еще Платон, который справедливо полагал, что основой возникновения государства является естественная потребность каждого из нас в чужой помощи[106]. И хотя он перечислял сугубо материальные мотивы (разделение труда, безопасность и т. п.), легко понять, что в действительности межличностное общение носит куда более глубокий характер и имеет куда более широкую мотивацию, чем только нужда в чужих услугах.
В государстве всегда доминирует мотив объединения, отыскания в своем ближнем тех черт, которые сближают, а не разъединяют. Разъединять нас и так найдется чему – падшая человеческая природа полна всевозможных соблазнов. Грех, ложное ощущение своей инаковости, собственного «я», естественное и врожденное неравенство между людьми (пол, возраст, физические и интеллектуальные способности, таланты или отсутствие их) всегда разделяют людей. Однако есть некая внешняя сила, которая, действуя на наше сознание, на всем протяжении существования человечества столь же неизменно объединяла нас для солидарной деятельности во имя общей цели, формируя у всех граждан некий общий интерес помимо многочисленных различных, противоположных и одинаковых интересов каждого из них[107].
Характерно, что государство, как организованный политический союз, возможно лишь при определенном согласии всех лиц в том, кто обладает высшей властью, кому они должны повиноваться и в чем заключается характер этого повиновения. Здесь, по словам Л.И. Петражицкого (1867–1931), обнаруживается некий консенсуальный характер власти[108]. Чтобы власть проявилась именно таким, а не иным образом, нужно, чтобы осознанно или нет, но лица желали повиноваться ей, признавали за властью соответствующие прерогативы. Потому, кстати сказать, и стала возможной в свое время теория «общественного договора», принципиально ошибочная по своей идее, но верно усмотревшая указанные качества в идее власти.
Уже давно было подмечено, что иерархия в межличностных отношениях удивительным образом формирует различные виды человеческих союзов, играющих роль общественных интеграторов, объединяющих людей по различным основаниям. Можно строить какие угодно догадки относительно стремления человека жить в том или ином коллективе, с точки зрения верующего человека все объясняется предельно просто – в основе их лежит не страх или взаимный интерес, но