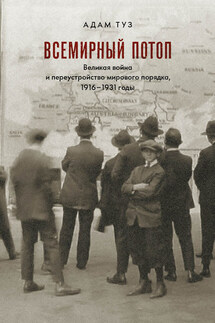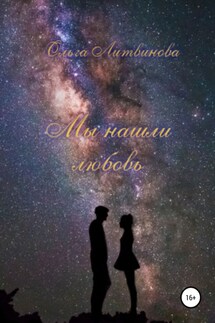Цена разрушения. Создание и гибель нацистской экономики - страница 59
Однако к весне 1934 г., когда резервы Рейхсбанка сократились до критического уровня, этот оптимизм начал испаряться[243]. Несмотря на многообещающее начало, система экспортных субсидий, основанная на обратном выкупе долговых обязательств, не работала. Гитлеровскому правительству следовало либо предпринять драконовские меры по увеличению экспорта, включая возможную девальвацию, либо наложить суровые ограничения на импорт. Однако последние поставили бы под удар весь процесс экономического возрождения. Германия не могла производить товары, работать и потреблять без импорта. Как мы уже видели, ключевые приоритеты режима были обозначены уже в первой половине 1933 г. Объемы средств, предназначавшихся для перевооружения, намного превосходили все, что когда-либо предполагалось выделить на создание рабочих мест – и столь же велики были соответствующие дипломатические, финансовые и политические риски. Летом 1933 г. в жертву были принесены интересы зарубежных кредиторов Германии. Истощение резервов Рейхсбанка с начала 1934 г. снова поставило правительство Гитлера перед выбором. Повторим: оно могло либо пойти на радикальные меры с целью поощрения экспорта, либо выборочно отдавать предпочтение одним статьям импорта перед другими. Преференции могли получить или отрасли, обслуживавшие гражданский сектор экономики, или сферы, связанные с государственными инвестициями и перевооружением. То и другое одновременно было невозможно. Этот непростой выбор проливает новый свет на разбиравшееся в предыдущей главе примечательное решение не выделять после декабря 1933 г. новых средств на создание гражданских рабочих мест. Если бы Берлин мог восстанавливать экономику страны, опираясь и на создание гражданских рабочих мест, и на перевооружение, то он, несомненно, выбрал бы именно этот вариант. Но это исключалось по причине ограничений, связанных с платежным балансом.
В самой Германии на любое публичное признание компромисса между гражданскими и военными приоритетами было наложено табу. Но этот запрет не распространялся на иностранных наблюдателей. Связь между военными долгами и перевооружением служила главной темой международных дискуссий еще с 1920-х гг. Рост военных расходов Германии после 1933 г. достаточно четко просматривался даже в публиковавшихся сведениях о бюджете Рейха. К весне 1934 г. зарубежная финансовая пресса регулярно подчеркивала противоречие между бурной активностью германских военных и заявлениями Шахта о том, что страна не способна обслуживать свой внешний долг[244]. Вывод был ясен. Если Германия действительно стремилась справиться с постигшим ее валютным кризисом, если она желала уступок со стороны кредиторов, то ей следовало отказаться от одностороннего перевооружения. Это четко дал понять германскому министру иностранных дел американский посол Уильям Додд в июне 1934 г.