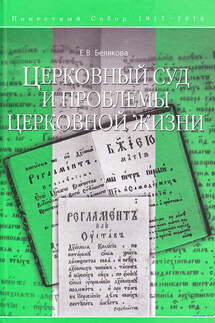Церковный суд и проблемы церковной жизни - страница 57
Настаивал на сохранении консистории и Назарий (Кириллов), епископ Нижегородский:
Консистория, разделяя с епископом дело управления Поместной Церковью и заменяя при лице епископов древний совет пресвитеров, вполне может быть местом не только административным, но и судебным, поскольку и епископ не только администратор, но и судья[337].
Владимир (Богоявленский), митрополит Московский, считал, что духовный суд следует оставить в консистории, а для его улучшения предоставить епископу право председательствовать на суде, а также сделать епархиальный суд гласным[338].
Значительная часть отзывов (24) содержала предложения в пользу создания суда, состоящего из нескольких инстанций, при этом низшая инстанция должна быть максимально приближенной к пастве и отличаться простотой в делопроизводстве.
Гедеон (Покровский), епископ Владикавказский предлагал устроить суд из двух инстанций: окружной или благочиннический и епархиальный.
В 25 отзывах[339] говорилось о том, что председателем церковного суда должен быть епископ. Большинство иерархов, выступая за сохранение за епископом судебной власти, признавали необходимым преобразование церковного суда на раннехристианских началах. Они считали, что суд должен быть устный, состязательный, при разбирательстве должен присутствовать совет пресвитеров.
Антоний (Вадковский), митрополит Санкт-Петербургский, считал необходимым реформировать духовный суд, при оставлении у епископа судебной власти, «по правилам Вселенской Церкви и соответственно уставу русского церковного судопроизводства 1864 г.», – с тем, чтобы процесс в духовном суде был «обвинительным, состязательным, исследовательным»[340].
Серафим (Мещеряков), епископ Полоцкий считал, что необходимо применение форм древнехристианского суда, при котором
в случае, например, обвинения священника в обиде, нанесенной им брату о Христе, или вообще, в «неправом хождении перед Господом», – дело по этому обвинению поступало на суд старцев и затем епископа. Суду предшествовало дознание или следствие, уполномоченные епископом собирали справки не только о нравственной личности обвиняемого, но и личности обвинителя, дабы не сделать обвиняемого жертвой клеветников. Затем после следствия в один из понедельников начинался суд. В состав суда входили старцы-пресвитеры. Обвиняемый и обвинитель выходили на середину двора епископа и здесь вели защиту и обвинение в порядке состязательного процесса. Старцы судили по справедливости и правде любовной и затем ставили свое решение или мнение. Это решение не имело окончательной силы и восходило на решение епископа. Епископ, руководимый Духом Божиим и Евангелием, ставил уже окончательное решение или приговор. Таким образом, в основу духовного суда древней Церкви, как видим, положены почти все главные стадии судебного процесса, которые имеются в современном нам светском суде, ибо в этом суде, подобно теперешнему светскому, мы находим и обвинение, и предварительное следствие, и предание суду, и следствие на самом суде, и суд чрез лиц, не имеющих власти ставить окончательный приговор. А раз это так, ‹…› то в интересах устранения указанных выше недостатков и несовершенств современного нам духовного суда, вызывающих справедливое на него нарекание со стороны лиц, с ним соприкасающихся, свыкшихся с более совершенными нормами суда светского, не только возможно с точки зрения канонических начал, но и желательно, чтобы наш духовный суд, получивший в свое ведение довольно широкий круг судебных дел, из коих некоторые касаются и светских лиц, пользовался в надлежащих обстоятельствах формами судопроизводства светского суда