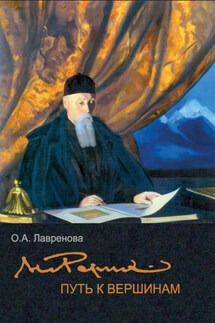Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии - страница 28
Тем не менее в 1914 году Моне приступил к созданию холстов полутораметровой высоты и почти двухметровой ширины, причем и эту «планку» он предполагал поднять. Как именно выглядел процесс создания таких масштабных полотен, особенно на самых ранних этапах воплощения «великолепного замысла», сказать трудно. Возможно, художник начинал с натурных штудий на небольших холстах, которые создавал непосредственно на берегу пруда, а затем перебирался в мастерскую и переносил изображение на холст большего размера, увеличивая масштаб. Если бы Моне сразу работал на пленэре с этими холстами, ему понадобилась бы помощь, чтобы спустить их из мастерской вниз по лестнице, а заодно и деревянные мольберты да еще шесть ящиков с красками, после чего все это предстояло протащить еще сотню метров по саду и туннелю, ведущему к пруду с лилиями.
Помогать мэтру могли садовники, но была рядом и Бланш, как в старые добрые времена, когда она спешила вслед за ним через луга и толкала тележку с холстами, а потом, стоя рядом, писала собственные этюды. Один из гостей Живерни позднее вспоминал, как она «пыталась совладать с тяжелыми холстами» Моне.[234] Более близкой по духу и умной помощницы и пожелать было нельзя. К тому же Бланш и сама делала успехи: в 1892 году один из ее пейзажей купила Берта Палмер; другую работу ей удалось выставить в Салоне независимых – а вот официальный Салон отверг ее так же, как и отчима.[235] Но она забросила живопись, зато всеми силами продолжала помогать Моне. «Она меня сейчас не оставит, – так Моне написал Жеффруа в феврале, через неделю после кончины Жана, – и это будет утешением нам обоим».[236]
В самом деле, присутствие Бланш, которая стала Моне другом и опорой во всем, весной 1914 года способствовало артистическому возрождению художника не менее, чем поддержка Клемансо. Как позже заметит Жеффруа, Моне «нашел в себе мужество, чтобы жить дальше, и силы, чтобы творить, благодаря женщине, ставшей ему преданной дочерью». После смерти Жана она постепенно заняла место своей матери, поддерживая порядок в доме Моне и принимая друзей, навещавших художника, как Клемансо. А главное, она также «убедила его вновь взять кисти»,[237] тем самым прервав череду лет, проведенных отчимом в тоске и бездействии.
«У живописи Моне странный язык, – заметил один обозреватель в 1883 году, – его секретами владеют лишь несколько посвященных да он сам». В первые десятилетия ХХ века этот язык стал гораздо понятнее. Импрессионизму в целом, как и творчеству Моне, было посвящено немало книг и статей, объясняющих эти секреты кажущейся спонтанностью мазка или случайным выбором сюжетов, в которых привычный досуг мелких буржуа изображен на фоне красивых, но малоприметных сельских уголков. Еще в 1867 году читатели романа Эдмона и Жюля де Гонкуров «Манетт Саломон» отождествили художника Крессана с Моне и его друзьями. Крессан – противник последователей «серьезной школы» – «врагов цвета». Эти живописцы, воспитанники Академии художеств, отвергают мимолетные впечатления и, наоборот, подходят к изобразительному искусству «осмысленно, рассудочно, через выражение идей и их критику». Крессан, напротив, интуитивно фиксирует впечатления, когда видит траву и деревья, ощущает речную прохладу или идет по тенистой тропе. «Прежде всего, – говорит рассказчик, – он искал ярких и глубоких впечатлений от места, момента, времени года, часа».