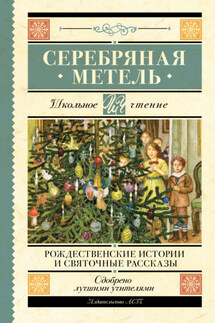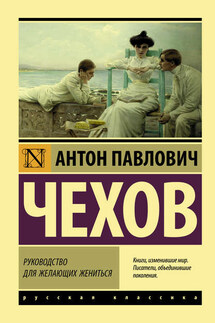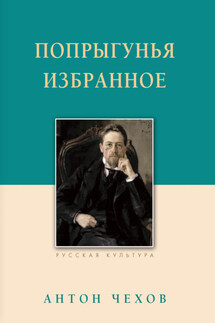Человек в футляре - страница 2
, для меня было ясно» (А. Н. Плещееву, 26 июня 1889 г.; П 3, 227).
Профессионал, по обязанности вскрывающий трупы и воспринимающий это дело с долей необходимого равнодушия и даже иронии. «Сейчас я приехал с судебно-медицинского вскрытия… Вскрывал я вместе с уездным врачом на поле, под зеленью молодого дуба, на проселочной дороге… Покойник „не тутошний“, и мужики, на земле которых было найдено тело, Христом Богом, со слезами молили нас, чтоб мы не вскрывали в их деревне… „Бабы и ребята спать от страху не будут…“ Следователь сначала ломался, боясь туч, потом же, сообразив, что протокол можно написать и начерно, и карандашом, и видя, что мы согласны потрошить под небом, уступил просьбам мужиков» (Н. А. Лейкину, 27 июня 1884 г.; П. 1, 116).
Человек, постоянно наблюдающий людей в болезни, слабости и беспомощности, тайных страстях и пороках вообще по-иному воспринимает мир. Его знание не обязательно проявляется непосредственно, но оно неизбежно перестраивает и определяет то, что сочиняет писатель, поменявший законную жену на любовницу.
«Не сомневаюсь, занятия медицинскими науками имели серьезное влияние на мою литературную деятельность; они значительно раздвинули область моих наблюдений, обогатили меня знаниями, истинную цену которых для меня как для писателя может понять только тот, кто сам врач; они имели также и направляющее влияние, и, вероятно, благодаря близости к медицине, мне удалось избегнуть многих ошибок. Знакомство с естественными науками, с научным методом всегда держало меня настороже, и я старался, где было возможно, соображаться с научными данными, а где невозможно – предпочитал не писать вовсе. Замечу кстати, что условия художественного творчества не всегда допускают полное согласие с научными данными; нельзя изобразить на сцене смерть от яда так, как она происходит на самом деле. Но согласие с научными данными должно чувствоваться и в этой условности, т. е. нужно, чтобы для читателя или зрителя было ясно, что это только условность и что он имеет дело со сведущим писателем» (Автобиография, 1899. 16, 271–272).
Сведущий писатель видит жизнь во всей ее широте и разнообразии. Через два десятилетия Е. Замятин назовет Чехова Нестором-летописцем конца XIX в. В этом конце фактически начиналась новая эпоха.
Чехов вроде бы пишет быт: люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни; надо писать просто: о том, как Петр Иванович женился на Марье Ивановне, – вот и все. Но это другая реальность, другая атмосфера, кардинально отличная от той, в которой существовали персонажи Гончарова, Тургенева или Толстого.
Чехов-литератор наследует от Чехова-врача, кроме всего прочего, интерес к пограничным, предельным состояниям человеческой психики, к изображению жизни на изломе.
Нервные люди: агенты и пациенты доктора Чехова
«Слово „нервный“ сравнительно поздно / Появилось у нас в словаре…» (А. Кушнер). Поэт считает, что появилось оно у Некрасова (сюда можно было бы добавить и Достоевского), объясняется «переломным сознаньем и бытом», но главным, определяющим становится у Чехова: «Эту нервность, и бледность, и пыл, / Что неведомы сильным и сытым, / Позже в женщинах Чехов ценил…»
Однажды Чехов не согласился с А. С. Сувориным, толковавшим, как и многие, в своем рассказе о нашем нервном веке: «…Ваш рассказ отчасти имеет целью устрашить читателя и испортить ему дюжину нервов, зачем же Вы говорите о „нашем нервном веке“? Ей-богу, никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем теперешние нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова» (13 декабря 1891 г.; П. 4, 323).