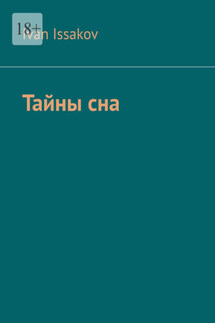Человек в футляре - страница 26
– Да? – спохватился Васильев. – Очень может быть! Я по природе ужасно суетен и фатоват. Ну, вот объясните, если вы верите своей физиономике! Полчаса тому назад стрелялся, а сейчас рисуюсь… Объясните-ка!
Последние слова Васильев проговорил слабым, потухающим голосом. Он утомился и умолк. Наступило молчание. Я стал рассматривать его лицо. Оно было бледно, как у мертвеца. Жизнь в нем, казалось, погасла, и только следы страданий, которые пережил «суетный и фатоватый» человек, говорили, что оно еще живо. Жутко было глядеть на это лицо, но каково же было самому Васильеву, у которого хватало еще сил философствовать и, если я не ошибался, рисоваться!
– Вы здесь? – спросил он, вдруг приподнимаясь на локте. – Боже мой! Нужно только прислушаться!
Я стал слушать. За темным окном, ни на минуту не умолкая, сердито стучал дождь. Жалобно и тоскливо гудел ветер.
– «И паче снега убелюся, и слуху моему даси радость и веселие»{26}, – читала в зале возвратившаяся Милютиха ленивым, утомленным голосом, не повышая и не понижая однообразной, скучной ноты.
– Не правда ли, это весело? – прошептал Васильев, повернув ко мне свое испуганное лицо. – Боже мой, чего только не приходится видеть и слышать человеку! Переложить бы этот хаос на музыку! «Не знающих привел бы он в смятение, – как говорит Гамлет, – исторг бы силу из очей и слуха»{27}. Как бы я понял тогда эту музыку! Как бы прочувствовал! Который час?
– Без пяти три.
– Далеко еще до утра. А утром похороны. Красивая перспектива! Идешь за гробом по грязи, под дождем. Идешь и не видишь ничего, кроме облачного неба да дрянных пейзажей. Грязные факельщики, кабаки, дровяные склады… брюки мокры до колен. Улицы бесконечно длинны, время тянется, как вечность, народ груб. А на душе камень, камень!
Помолчав немного, он вдруг спросил:
– Давно видали генерала Лухачева?
– С самого лета не видел.
– Любит петушиться, но милый старикашка. А вы всё пописываете?
– Да, немножко.
– Так… А помните, каким фырсиком, восторженным теленком прыгал я на этих любительских спектаклях, когда ухаживал за Зиной? Глупо было, но хорошо, весело… Даже при воспоминании весной пахнет… А теперь! Какая резкая перемена декораций! Вот вам тема! Только вы не вздумайте писать «дневника самоубийцы». Это пошло и шаблонно. Вы хватите что-нибудь юмористическое.
– Вы опять… рисуетесь, – сказал я. – В вашем положении ничего нет юмористического.
– Ничего нет смешного? Вы говорите, ничего нет смешного?
Васильев приподнялся, и на глазах его заблестели слезы. Выражение горькой обиды разлилось по его бледному лицу, задрожал подбородок.
– Вы смеетесь над кассирами и неверными женами, которые надувают, – сказал он, – но ведь ни один кассир, ни одна неверная жена не надували так, как надула меня моя судьба! Я так обманут, как не обманывался еще ни один банковый вкладчик, ни один рогатый муж! Прочувствуйте только, в каких смешных дураках я остался! В прошлом году, на ваших глазах, не знал, куда деваться от счастья, а теперь, на ваших же глазах…
Васильев упал головой на подушку и засмеялся.
– Смешнее и глупее такого перехода и выдумать нельзя. Первая глава: весна, любовь, медовый месяц… мед, одним словом; вторая глава: искание должности, ссуда денег под залог, бедность, аптека и… завтрашнее шлепанье по грязи на кладбище.
Он опять засмеялся. Мне стало жутко, и я порешил уйти.
– Послушайте, – сказал я, – вы лежите, а я схожу в аптеку.