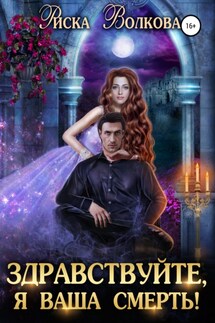Человек: выход за пределы (сборник) - страница 60
На практике это выглядит примерно так: лаборатория целенаправленно работает на удовлетворение запросов потребителя, которые становятся известными ей благодаря деятельности СМИ; потребитель готов нести расходы на продукцию, которая отвечает его запросам; благодаря этому предприниматель получает прибыль, которую он, в свою очередь, инвестирует в лабораторию, тем самым запуская новый цикл обновления технологии; СМИ формируют у массового потребителя все новые запросы, вызывая интерес к беспрерывной замене уже имеющихся у него изделий и технологий на новые, которые становятся (или по крайней мере выглядят) все более эффективными, все более полезными, все более привлекательными…
Между прочим бизнес и лаборатория порой охотно инициируют исследования, призванные ответить на самые экзотические ожидания. Ведутся, в частности, исследования, направленные на обеспечение неограниченной продолжительности жизни, на создание ребенка с такими психофизическими характеристиками, которые хотели бы получить их родители, и т. п. СМИ же при этом возбуждают и поддерживают подобные ожидания, как было, например, с «таблетками бессмертия», над которыми якобы работает (что ему приходится постоянно отрицать) академик В.П. Скулачев.
Можно в этой связи заметить, что в 1999 г. в США был создан Фонд максимальной жизни (Maximum Life Foundation), поддерживающий исследования в области старения и борьбы с ним. Миссия этого фонда – ни много ни мало повернуть к 2029 г. вспять процессы старения человека с тем, чтобы в конечном счете добиться неопределенного долголетия в молодом возрасте[125]. Для достижения этих целей предполагается объединить биологические, информационные и нанотехнологии. О взаимодействии в этом проекте бизнеса и технологии более всего свидетельствует тот факт, что в фонде имеется три консультативных совета – предпринимательский, медицинский и научный.
Понятие технонауки – это лишь одна из многих попыток как-то зафиксировать то качественно новое состояние науки, в котором она оказывается в начале ХХI столетия, когда мир движется по пути к обществу знаний. Среди таких попыток представляет интерес, в частности, то различение двух стилей науки, которое проводит австрийский социолог науки, вице-президент Европейского совета по исследованиям Хельга Новотны[126]. По ее словам, эпистемология, характерная для науки стиля-1, основывается на четком разделении науки и общества. Что касается науки стиля-2, то для нее характерны такие черты:
– во-первых, проблематика исследований определяется в контексте приложений, который выстраивается в ходе диалога – нередко очень непростого – различных сторон, которые так или иначе будут затронуты этими приложениями;
– во-вторых, на смену характерным для университетов иерархическим структурам, жестко разграничивающим отдельные дисциплины, приходят существенно гетерогенные, нежесткие структуры организации исследований;
– в-третьих, трансдисциплинарность науки стиля-2: направленность интеллектуальных усилий в ней определяется не столько интересами тех или иных научных дисциплин, сколько требованиями, задаваемыми контекстом приложений.
Привычное понимание коммуникаций между наукой и обществом заключается в том, что те, кто не является учеными, не знакомы с новейшими достижениями науки, и их необходимо информировать. Что касается науки стиля-2, то в ней наряду с этими существуют и направленные в противоположную сторону потоки информации: общество оказывается в состоянии сообщать науке о своих желаниях, потребностях и опасениях. Это вовлечение человека в процессы производства знаний, необходимость определения его места в них Х. Новотны характеризует как контекстуализацию, затрагивающую и те области производства знаний, которые кажутся чрезвычайно далекими от сферы обитания людей.