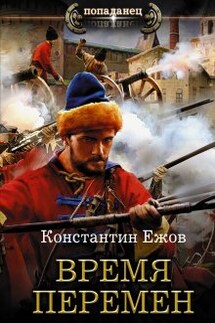Черти в Париже - страница 7
Бим подвинул испод подушечку: «Порфирий я, Сергеич».
– Устала–с я, Порфирий, как гришь, Сергеич? Ну–ну. Парижец такой большой городишко.
А мне: «Ладненьким не обойдётся, сударь, говорите правдиво: вас лишили работы, Егорыч, так ведь? Или наложили штраф? По–другому в нормальных фирмах не бывает».
– Простили меня, – говорю, – потому как дело шло к концу месяца, и даже денег с меня не взяли, хотя я предлагал излишек расхода оплатить со своего кармана. Может мне пора отвернуться от вашей картинки?
Тут Варвара Тимофеевна, забыв про меня, и не ответив вежливым «можете посмотреть наши шалости, а можете чуть погодя присоединиться», стала закидывать нога на ногу, широко, задница–то с барселонский квартал.
Фальшивый костыль в сторону.
А как только приподнялся край платья, показались кружева, и оголилась розовая коленка, так Бим стал валиться на неё и тут…
И тут Бим стал мной, а Варвара оказалась Маськой.
Прорезь у Маськи нежная, белая и тонкая, но не так как у Тимофеевны – обросшая рыжими волосами и труднодоступная – как дикая тайга (тайга ещё цивилизованной бывает, когда из неё делают музей с билетами), – а такая, как полагается молодым и неопытным девушкам.
Ужель то была Фаби?
Но тогда я ещё не знал Фабиного устройства
Значит, объявившееся чудо было–таки Маськой.
Расцвела девушка на глазах всего Интернета! И всего города. Ибо только она одна мылась в водном шоу в бабушкином бюстгальтере. А я был в амстерской майке, с красной амстерской блядью, силуэтом между букв.
Изображала серединную «А».
Для этого стояла на коленях и расставила ноженьки, а «А» долженствующая именоваться заглавной была буквой обыкновенной, вот так: «амстердАам».
Перекладиной у «А» была согнутая её рука.
Всё было изображено мастерски. Уровень верхнего неолита.
То есть лаконично в степени зае… то есть «здоровски».
И все смотрели на мою серединную «А» и мечтали её поиметь: даже не снимая её с меня, а просто вставить меж колен ей: и ведь попали бы, сволочи!
Ей в промежность, а мне в сосок.
И под фонтаны я не полез: не то чтобы со страху, а сидел себе, охранял место, маськино; и хлестал пиво, и курил трубчонку; пока Маська купалась; пока Маська сверкала. Здоровой деревенской простотой.
А в романсус мой не пошла. Хоть я мог. Бесплатно, тела не требовал: не хочу да и всё тут.
– Напишите лучше поясной портрет акварелью, на газетке – говорила мне, – сэкономите торшон.
Кстати, идея: акварель на газетке. Спасибо, Мася! Можно выбиться в люди.
А бывшая моя говорит так: «А и не дала бы», может, и не про этот случай говорила, то есть не про Маську: так откуда ей знать?
Ведь ни одной фотки с Маськи нет: стеснялась, не хотела ославиться. Ибо жить с дедушкой, месяцами, в одной постельке – это не модно.
А таких случаев на самом деле тыщи обыкновенных – как порнушки, и сотни уникальных – не похожих ни на что.
А я тогда: «Дала бы, но я добр, и не стал».
А сам имел в виду совсем другую, которая была не любовью, но немного в фаворе. А я не насильник, мог бы и окрутить.
Языком.
Язык подвешен как надо.
И, кроме того, без любви. А при фаворе и без любви, как–то оно не очень: да и мораль есть мораль.
Попробовал только сисечек, да и те руки сожгли до ошпара.
Мораль, она как кость в горле: жрать не даёт, хоть организм требует.
Но, если оборотитися вновь, скрипя пером, к Маське, вспоминаю: тут же спросонья, механически, Маська завопила.
Бы!
Шёпотом, естественно, ибо ночь.