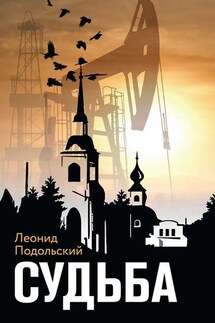Четырехугольник - страница 47
При всем при том Андижан действительно был городом интернациональным. Кроме узбеков и славян здесь много было татар, армян, евреев. Татары, как и бухарские евреи, в Узбекистане жили веками, с давних времен, исторически: татарские купцы и ученые, строители, студенты медресе и богословы, и в советское время – бежали от репрессий, от коллективизации, ехали на стройки. А вот евреи-ашкеназы попали в Узбекистан в основном во время войны: приехали в эвакуацию и остались. Это все же было не самое плохое место, не Сибирь с ее трескучими морозами, фруктовый рай, и антисемитизма намного меньше, чем в европейской части. Для узбеков русские, евреи и прочие «европейцы» все были на одно лицо, здесь можно было занимать должности, даже в партии и в милиции, какие и не снились на Украине, и не существовало ограничений при приеме в институты. За первой, военной, последовала и вторая волна: евреи-профессора и доценты, ученые и организаторы ехали на национальные окраины по мере того, как их вытесняли из центра. «Другие народы сюда ссылали силой, а мы – сами себя сослали от безысходности», – сказал как-то папин приятель доцент Кауфман, а Леонид слушал и впитывал, как губка. Здесь, в Узбекистане, он впервые начинал изучать советскую арифметику межнациональных отношений. И не только межнациональных…
И ведь было что изучать. Опять-таки из того времени, из пятидесятых-шестидесятых. Про очень многих людей Леонид узнавал, что «сидели», что вернулись из лагерей, из ссылки. Сидели на завалинке, рассказывали страшные вещи – про Норильлаг, про Кенгир, Караганду[44].
Да, стоило только обернуться, задуматься… Особенно в Андижане, в сердце Ферганской долины…
…Вскоре некоторые из высланных народов стали возвращать к прежним местам проживания. Как-то летом в дороге среди казахстанских степей Леонид увидел поезд, стоявший в тупике, – поезд был почти такой же, как тот, о котором рассказывала Эльмира: только товарные вагоны чередовались с открытыми платформами, на платформах сидели старики-ингуши в меховых папахах, в загонах стоял скот, женщины в цветных платьях и в косынках чуть ли не на рельсах готовили нехитрую пищу. Поезд, судя по всему, стоял в тупике долго, но люди не роптали, они возвращались на родину.
Да, много чего происходило, что никогда не изучали в школе и о чем никогда не писали в учебниках. Только через годы, став историком и доктором наук, Леонид задним числом понял, что жили на пороховой бочке, манкуртами, чужаками, не зная элементарных вещей – ни про резню 1916 года[45], ни про Туркестанскую автономию[46], ни как следует про басмаческое движение[47], продолжавшееся чуть ли не до самой войны, – и ведь искрило, многократно искрило[48], и умные люди предсказывали[49]. Что называется, жили, «под собою не чуя страны», но в то время он был влюблен, ни о чем таком не догадывался, и Советский Союз казался ему вечным, и он слабо представлял будущее, и не слышал нараставший подземный гул. Не зная прошлое, трудно было предвидеть. Леонид жил сегодняшним днем. И все жили сегодняшним днем…