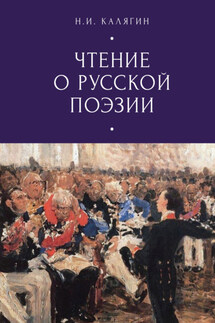Чтения о русской поэзии - страница 22
Имея многие слабости, о которых незачем здесь распространяться, Екатерина могла понять и простить слабость подданного (чего не было у железного Петра) – она была человечна. За это ее любили и нередко делали для нее невозможное, «небывалое». Идеалист Петр не щадил для Отечества своей жизни, того же ждал от других – и снова и снова разочаровывался в людях. Ближайшие сотрудники обманывали его на каждом шагу, стоило только Петру на секунду отвернуться. Практичная Екатерина придерживалась принципа: «Живи – и жить давай другим», разочаровываться в своих сотрудниках ей никогда не приходилось. (Это они в ней иногда разочаровывались, но потом, после окончания своей миссии).
Екатерина настолько была умна, что и людей, обладавших высокими нравственными принципами (святой Тихон Задонский, Румянцев, Суворов, Дашкова, Державин и другие), умела привлечь на свою сторону и использовать их энергию на пользу своему «маленькому хозяйству». Чужое здоровье не вызывало у нее головной боли – редкое, похвальное качество! Можно предположить, что непрактичность вышеназванных славян вызывала у бывшей принцессы Ангальт-Цербтской легкую усмешку, которая и спасала ее от зависти.
Екатерина не погрешала против внешнего благочестия (в отличие от Петра), уважала религиозные чувства простого народа и – также в отличие от Петра – вовсе, кажется, не верила в Бога. Церковная политика Екатерины заключалась в том, чтобы «растворить духовенство в среднем слое людей», оттеснить его на задворки социальной жизни.
Вы помните, конечно, страстный призыв Вольтера: «Раздавите гадину!» Впрочем, в минуты мирного расположения духа тот же Вольтер признавал, что для простонародья церковь долго еще будет полезна, и поэтому «если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать». Вот эти два тезиса и были, пожалуй, положены в основание церковной политики Екатерины. «И бога выдумать, и гадину раздавить».
Совсем не случайно «Наказ» Екатерины подвергся цензурному запрещению в Англии и во Франции. То, что в самой Франции было остроумной теорией, кабинетной выдумкой горстки энциклопедистов, в России становилось правительственной программой.
Верная ученица французских просветителей, Екатерина в 1764 году наносит страшный удар просвещению народа русского. В тот год были введены штаты: императрица одним росчерком пера уничтожила 754 монастыря. От общего их числа сохранилась после указа только пятая часть.
Эта мера принесла государству три миллиона рублей в год. Не так уж мало, ведь годовой доход Российской короны составлял к началу 60-х годов не более тринадцати миллионов (по оценке той же «Французской энциклопедии», которой в таких вопросах доверять, я думаю, можно).
А что отняла у государства эта мера? Тоже немало.
Монастырь в России – с XI века и до настоящего времени – это и есть русский университет. Традиции, культура, народное образование, национальное самосознание – все тут. Зарождение любой обители, ее рост или упадок – процесс органический и таинственный. Вторгаться в эту область извне, пытаться «улучшить монастырское дело» с помощью грубых административных мер… Ну, это было очень самонадеянно.
А вот и другая сторона вопроса. Монастырская собственность складывается веками и состоит большей частью из добровольных вкладов, из пожертвований самых разных людей – на помин души. С упразднением монастыря, естественно, прекращается и поминание. То есть вот этим своим знаменитым росчерком пера русская императрица, «крайний судия Духовной Коллегии», нарушила последнюю волю неимоверного числа русских православных людей.