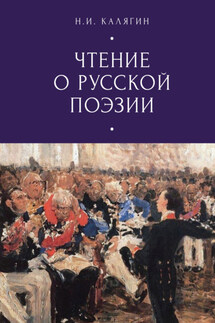Чтения о русской поэзии - страница 25
Эрудит из нашего примера не заслуживает серьезного разговора (бессодержательность – недостаток, от которого почти невозможно избавиться), но и патриоту следовало бы принять к сведению чеканную формулу Гегеля: «Форма столь же существенна для сущности, как сущность для себя самой». Недостаточно пылать, обожать, негодовать, нужно быть в Церкви. Церковная дисциплина строга, церковная культура неимоверно сложна, но если вы справитесь с этим и войдете в Церковь, то ваши прекрасные чувства обретут разделение, ваша любовь к отечеству принесет сочный плод. А метать сомнительного достоинства бисер перед несомненными свиньями – занятие пустое.
Русский человек ХVIII столетия еще связан пуповиной с матерью-Церковью, но первые плоды насаждаемого сверху расцерковления уже созрели. Государственный ум Ломоносова видит в монастыре главным образом помеху деторождению (Россия же мало населена, и детей надо бы побольше); образцовый вкус Сумарокова не оскорбляется подобной прямолинейностью. Сумарокову претят только «ученость» и «надутость» Ломоносова, смешного своей простонародной серьезностью и чином коллежского советника, полученным за какие-то химические опыты, – в то время как Сумароков был естествен, прост и был действительный статский советник. А на его трагедию «Синав» имелся официальный похвальный отзыв Французской академии.
Закончим на этом разговор о Ломоносове и Сумарокове. Поговорим о их учениках.
Любимым учеником Ломоносова был Николай Поповский, один из талантливейших людей своего времени, ставший в двадцать шесть лет профессором Московского университета. В истории литературы имя Поповского сохранилось главным образом благодаря переводу «Опыта о человеке» Александра Поупа. Этот перевод выдержал пять изданий в XVIII веке и имел солидный, прочный успех – успех у серьезного читателя, который покупает книгу не для того, чтобы быть «на уровне» или «в курсе», а чтобы проверить свои жизненные правила и, если удастся, улучшить их. Спустя сто лет герои Лескова – чудаки, «русские праведники» – помнят еще перевод Поповского, иногда и наизусть. Это произведение, что называется, пошло в почву.
Здоровая, бодрая, достаточно примитивная философия английского просветительства, сумевшего избегнуть некоторых крайностей, запятнавших континентальную его разновидность. К. Леонтьев писал по этому поводу: «Атеистически-либеральное движение умов началось в Англии, но общечеловеческий вред причинило это направление только через посредство Франции ХVIII века».
Кроме Поупа, Поповский переводил Горация (и осуществил, с помощью Ломоносова, первый русский стихотворный перевод «Искусства поэзии» – на двадцать втором году жизни), писал и оригинальные поэтические произведения в наиболее ответственном в то время жанре похвальной оды. Но в целом поэтическое наследие Поповского невелико: до тридцатилетнего возраста ему приходилось разрываться между научной и педагогической деятельностью, выкраивая для поэзии крохи свободного времени, – а там смерть положила конец всем его трудам.
Иван Семенович Барков – очень колоритная личность, тоже сын священника (как и Поповский), тоже в какой-то степени ученик Ломоносова. Именно по просьбе Ломоносова шестнадцатилетний Барков был зачислен в Академический университет; Барков и потом бывал у «российского Пиндара» в доме: Ломоносов давал ему заработать перепиской. Случайно или нет, но бесконечные кутежи перестали сходить Баркову с рук именно после смерти Ломоносова – из академии, где он имел должность и твердый оклад, Барков был сразу же уволен и через два года умер, тридцати шести лет от роду. Чем он жил эти два года, отчего и как умер – неизвестно.