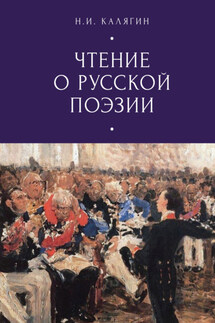Чтения о русской поэзии - страница 37
Подытоживая сказанное о Львове, заметим: он многое делал первым, но он мало любил своих литературных чад, мало ими занимался и не столько стремился сам подняться на вершину славы, сколько расчищал дорогу вслед идущим. Чтобы проиллюстрировать отношение Львова к своему творческому наследию, приведу отрывок из письма, в котором Николай Александрович сообщает Капнисту о том, что некий общий знакомый «потерял не только все мои сочинения, сколько их ни было, но и записки мои, до художеств касающиеся, и все мои журналы. Нет у меня теперь в библиотеке ни строчки, а в голове ни одной мысли. Я чаю, ты бы за это рассердился. И я бы рассердился, да стал глуп очень, так все равно, прости». Тут вы все видите сами. Разграблены архив и библиотека. Львов сознает, что ненормально не сердиться из-за этого, и оправдывается болезнью и вызванным ею «поглупением». Просит на всякий случай прощения… Ясно, что автором, человеком, пестующим свою самость, Львов быть не может. Его природа, пожалуй, выше авторской.
Слово, которое мне сегодня особенно часто приходится употреблять, есть слово «перевод». Все поэты ХVIII столетия что-нибудь да переводят; даже Василий Майков, не зная иностранных языков, переводит с церковно-славянского псалмы. Это понятно. Русская поэзия, хоть и родилась у Ломоносова «красавицей», из детского возраста еще не вышла и должна многое перенимать от старших сестер.
И здесь выплывает на поверхность одна тема – тема деликатного свойства.
В учебной литературе до сих пор чрезвычайно высоко оценивается деятельность Новикова. А судьба Новикова служит обыкновенно наглядным пособием при публичной защите тезиса: «Самодержавие – враг просвещения». В самом деле, с одной стороны мы видим развратную императрицу, которая закрепощает вольных украинских хлебопашцев и раздает награбленные деньги любовникам, с другой – благородного просветителя, который наводняет Россию книгами, заслуживает тем самым неприязнь развратной императрицы и попадает в крепость… Живая картина, контраст разительный.
Действительность, как водится, сложнее.
Культурное строительство во все времена стоило очень дорого, а успехи истинного просвещения в России ХVIII столетия очевидны. Укажем на одну только деталь: античная классика была у нас за эти сто лет переведена и издана практически полностью.
Инициатива в деле усвоения общемировой культуры исходила от правительства, шла сверху; Новиков был один из частных предпринимателей, откликнувшихся снизу на эту инициативу. Тайные цели Новикова, наверное, отличались от благородных и ясных целей правительства (он был видный масон, мартинист), но мы с вами, слава Богу, в масонские тайны не посвящены и говорить о них поэтому не будем. Известно, что Новиков в двадцать раз увеличил оборот книжной торговли в России (об этом можно прочесть в «Обозрении русской словесности 1829 года» И. В. Киреевского) и приохотил нашу провинцию к беспробудному, запойному чтению, подготовив тем самым фундамент для устройства в будущем Ордена российской интеллигенции. Этой заслуги никто у него не отнимает. Но ведь не Новиков платил Баркову жалованье за его занятия Горацием, не Новиков материально поддерживал семнадцатилетний труд Василия Петрова над переводом «Энеиды»… Скажем наконец грубо и прямо: царское правительство тратило огромные деньги на просвещение, на культурное строительство, и тратило безвозвратно – Новиков на просвещении зарабатывал. И заработал так много денег, так широко развернул с их помощью свое «дело», что мог уже формировать общественное мнение, направляя его на цели, весьма отличные от целей правительства. Впрочем, пострадал он не за это, а за свои связи с заграничными масонами.