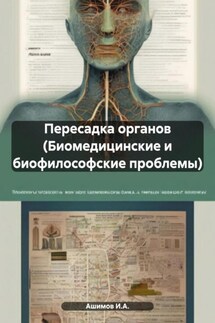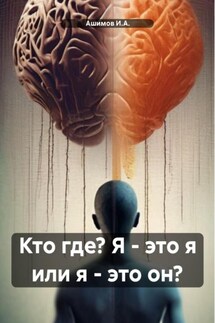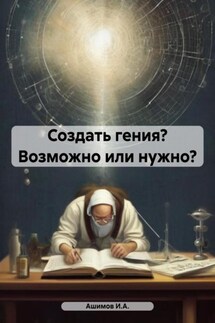Что главнее? Мозг, сознание или тело? - страница 10
Основными качествами для любого ученого являются: любознательность и трудолюбие от природы, способность абстрагироваться, проявить терпение и настырность. Самое же главное в научном труде, все же является – не пройти мимо непонятного. Профессор Набиев уже давно привык к одиночеству, всегда был углублен в себя, потому не очень-то и страдал от отсутствия общения с людьми. Постепенно он погрузился в этот безграничный океан научного поиска, впадая в состояние полного одичания. Он действительно дичал, запустил свою внешность, волосы отросли до плеч. У него постепенно угасало само чувство общественности. – «В науке – как и в жизни. Попадаются всякие попутчики. Иногда на этом пути встречаются осторожные доброжелатели, советующие вести себя правильно и все у тебя будет – почет, уважение, звания и награды. А если это тебе претит, ты этого не хочешь и не можешь? Лучше идти своим, пусть трудным и тернистым, путем, а что касается авторитета, наград, то это неважно», – размышляет Набиев.
Я не раз подчеркивал в своих книгах то, что трудно прокладывать дорогу в неизвестной территории науки, среди зависти, непонимания, равнодушия коллег. Лишь его коллеги знали, что все, что касается его научных идей, гипотез – это результат серьезной, кропотливой, до седьмого пота труда ученого, которому посчастливилось найти и описать то, что не видели и не сделали другие. – «Восторжествовала бы справедливость если журналисты, организаторы и историки науки, наконец, заметили бы роль таких скромных от природы ученых-отшельников, признали бы и огласили бы талант, знания, упорство, умение мыслить, трудолюбие, смелость в поиске и утверждении нового, – с такой мыслью я писал раз за разом научно-фантастические романы («Пересотворить человека», «Фиаско», «Биовзлом», Биокомпьютер», «Клон дервиша», «Икс-паразит», главными героями в которых были люди науки (Каракулов, Салимов, Каримов, Набиев, Серегин).
Хочу заметить биографии этих ученых в какой-то мере автографичны моей. В этих книгах мне хотелось показать профессионалов своего дела, страстных ученых, настоящих трудоголиков. Практически у всех из них, работа – это отдушина, смысл существования. Для них семья, родственники, быт всегда были на втором месте. Они привыкли работать безостановочно – в лаборатории, дома, на даче. Причем, все они всегда неприметные, ровные, безропотные. «Великие дела делаются тихо» – вот его девиз. У них нет и не было хобби, все их свободное время забирала наука. Если он погружался в работу, то окружающий мир переставал для них существовать. Они уходили в себя, никого не видели, ничего не слышали. Не знаю, удалось ли мне разрисовать в книгах откровенно фантастические допущения, мысленные эксперименты, вымыслы и свободные размышления, но считаю, что мне удалось показать, что именно такие ученые ставят проблему, а «что будет, если…».
По сути, гипотеза о Х-онтобионте – это провокация в научном мире, а потому имеет значение, как отнеслись к ней профильное научное сообщество. Речь идет о разбросе мнений по поводу возможного вектора эволюции животного мира, а также об особых стилях жизнедеятельности ученых на современном этапе. Ученые различных отраслей, их многочисленные диалоги, почти протокольные обсуждения на научных форумах и собраниях – это не столько фабульные элементы романа, сколько своеобразная технология «продвижения» в умах и сердцах проблем эволюционного процесса, формирования мозга, взаимоотношения его с сознанием, подсознанием.